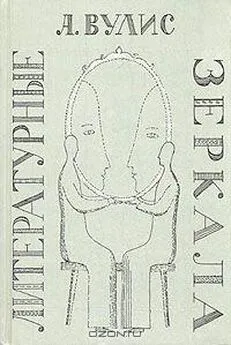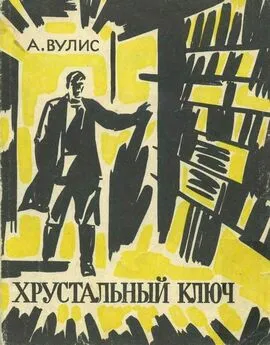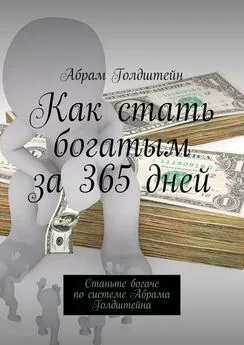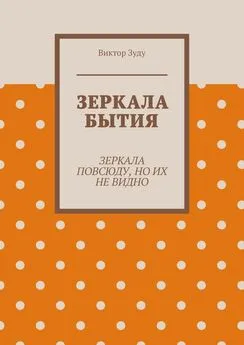Абрам Вулис - Литературные зеркала
- Название:Литературные зеркала
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1991
- Город:Москва
- ISBN:5-265-014-96-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Абрам Вулис - Литературные зеркала краткое содержание
Фантастические таланты зеркала, способного творить чудеса в жизни и в искусстве (которое ведь тоже зеркало), отразила эта книга. В исследовательских, детективных сюжетах по мотивам Овидия и Шекспира, Стивенсона и Борхеса, Булгакова и Трифонова (а также великих художников Веласкеса и Ван Эйка, Латура и Серова, Дали и Магритта) раскрываются многие зеркальные тайны искусства.
Литературные зеркала - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
От незнания — к постижению, от невнятных знаков — к открытым, точным смыслам, от загадочных фантомов к житейским резонам, от тайны — к правде. Вот путь гоголевского портрета. В иной терминологии: сперва вы получаете данность; потом она ставится под сомнение; возникают противоречивые концепции фактов; накапливаются новые впечатления, по своей функции это улики; с их помощью отметаются дилеммы, отвергаются альтернативы; и приходит истина. Одна-единственная.
Путь мышления избран прямо-таки детективный, и если хочется избежать сейчас параллелей с жанром Эдгара По и Конан Доила, то вовсе не из литературоведческого высокомерия по отношению к «низкой» литературе. Просто аналогичные закономерности действуют еще кое-где — например, в пародии. Сюжетное развитие пародии, как мы помним, реализуется в поединке остранения с узнаванием, узнавания с остранением. Но ведь эти процессы могут быть подведены под более общую категорию. Я бы обозначил ее: динамика переосмысления.
Всякий ли портрет в литературе подчиняется этому правилу? И всякий — и не всякий. Всякий, потому что она (т. е. литература, поэзия) видит свей предмет текущим и изменяющимся во времени. Не всякий, потому что словесная живопись являет собой подчас, как выражаются ныне, «механизм торможения», попытку остановить время, найти посреди мчащейся реки островок покоя. Стабильность эта кажущаяся, потому что жизненные связи вовлекают «отдельно взятое» изображение в свою пучину.
И все-таки бывает в литературе портрет-самоцель, подобно тому как бывают лирические отступления, или вставные новеллы, или стихотворения в прозе, украшающие собой прозу отнюдь не стихотворную. Подходящие примеры есть у Гончарова.
Что ж, «Обломов» и впрямь демонстрирует разные модификации «словесной живописи», включая и наиболее анатомичную, препараторскую: роман-портрет. Но наши притязания на сей раз скромнее по масштабам. Требуется не роман-портрет, а портрет в романе. И, разумеется, все равно обстоятельный, основательный, последовательный Гончаров выручает нас.
«Обрыв» открывается сразу двумя портретами. Подначи-тавшись разной модерновой литературы, насаждающей стремительные завязки, поначалу даже как бы спотыкаешься на этом композиционном решении. Еще бы — не успел дверь распахнуть, и нет тебе ни вестибюля, ни прихожей, а тотчас — получай-ка картинная галерея.
Поскольку первый ее зал не столь уж велик — всего на две персоны, осмотрим его подробно. Итак: «Два господина сидели в небрежно убранной квартире в Петербурге, на одной из больших улиц». Вот и вся ходьба по прихожей, весь событийный разбег и вся экспозиция. А дальше — сами портреты: «Одному было около тридцати пяти, а другому около сорока пяти лет». Позвольте, скажут мне, это пока анкета, а не портрет; с каких пор годы рождения стали выполнять живописную функцию?! Возражу: возраст — это и есть способ дать человека во временной плоскости, вполне правомерная проекция личности на экран времени. Причем столь, казалось бы, лаконичная деталь может служить носительницей обширной пред-программы. Осмеливаюсь, например, с ходу предположить, что младший из собеседников будет действующим лицом, а старший — резонером. Соответственно, младшего на данном этапе обрисуют наскоро, вскользь, чтобы не перебивать грядущее повествование, где ему предстоит раскрыться всесторонне, а старшего, напротив, покажут целиком, с максимально возможной доскональностью: потом на него не будет ни сил, ни минут.
Наверное, рассуждать так, как я тут рассуждаю, не очень трудно: все мы крепки задним умом. Все мы умеем предсказывать подробности сюжета, зная по воспоминаниям общую его схему. Тем не менее закономерность остается и при этих условиях закономерностью, тенденция — тенденцией, наблюдение (или предположение) — наблюдением.
Вернусь к «Обрыву». Назвав имена своих героев («первый был Борис Павлович Райский, второй — Иван Иванович Аянов»), писатель берется за кисть: «У Бориса Павловича была живая, чрезвычайно подвижная физиономия. С первого взгляда он казался моложе своих лет, большой белый лоб блистал свежестью, глаза менялись, то загорались мыслию, чувством, веселостью, то задумывались мечтательно, и тогда казались молодыми, почти юношескими. Иногда же смотрели они зрело, устало, скучно и обличали возраст своего хозяина. Около глаз собирались даже две-три легкие морщины, эти неизгладимые знаки времени и опыта».
Сквозь портрет с первого же момента прорывается характеристика, сквозь живопись — психология. «Неспешным» писателям, вроде Гончарова, такая манера обычно не очень мила и не очень свойственна. Они предпочитают правило «разделяй и властвуй!», они воздают каждому свое. Спешить им некуда, а всяческое смешение внутрироманных красок грозит нарушить чистоту замысла. И вот, спохватившись, Гончаров больше не забегает вперед. Он работает кистью, а мысли держит при себе: «Гладкие черные волосы падали на затылок и на уши, а в висках серебрилось несколько белых волос. Щеки, так же как и лоб, около глаз и рта сохраняли еще молодые цвета, но у висков и около подбородка цвет был изжелта-смугловатый».
Мысли, однако, своевольничают, спеша выбежать на сцену: «Вообще легко можно было угадать по лицу ту пору жизни, когда совершилась уже борьба молодости со зрелостью, когда человек перешел на вторую половину жизни, когда каждый прожитой опыт, чувство, болезнь оставляют след». И опять мысли перемежаются живбписью, черпая из нее материал: «Только рот его сохранял, в неуловимой игре тонких губ и в улыбке, молодое, свежее, иногда почти детское выражение».
Вот теперь самый момент поразмыслить: можно ли портреты такого рода расценивать как самодовлеющую эстетическую ценность? Своей точке зрения я не мог помешать: она проскальзывала в мимолетной интонации, определяла подбор вводных слов или цитат — да и просто дремала в подтексте, что тоже выглядело со стороны многозначительным намеком. Так? Или не так? Я склонен полагать, что всякий портрет с видами на будущее, всякий портрет, рассчитанный на последующее узнавание, содержит в закодированной форме многие повороты назревающего действия. Это пружина, каждый изгиб которой таит энергию несостоявшихся поступков и гарантию того, что они состоятся. И это зеркало, в котором отразилось пророчество, зеркало, из которого на нас смотрит завтра, переведенное магической силою творческой интуиции в категории зримого «вчера» и «сегодня».
Так что портрет Райского, по-моему, никак не портрет-самоцель, при всей своей тщательной визуальной фактуре и психологической прозрачности он — опорный камень на пути писателя вверх, по горной реке событийного рассказа. Он — рабочий портрет. И колдовскую печать остране-ния автору еще предстоит с него снимать.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: