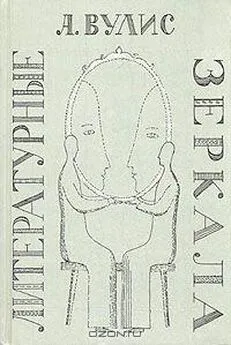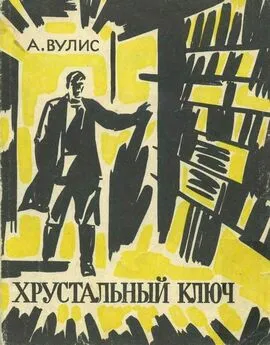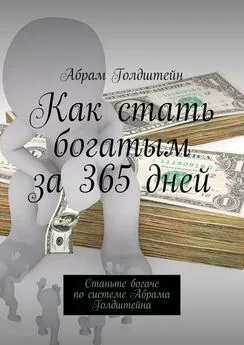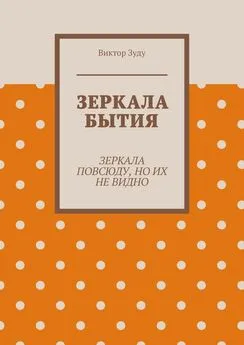Абрам Вулис - Литературные зеркала
- Название:Литературные зеркала
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1991
- Город:Москва
- ISBN:5-265-014-96-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Абрам Вулис - Литературные зеркала краткое содержание
Фантастические таланты зеркала, способного творить чудеса в жизни и в искусстве (которое ведь тоже зеркало), отразила эта книга. В исследовательских, детективных сюжетах по мотивам Овидия и Шекспира, Стивенсона и Борхеса, Булгакова и Трифонова (а также великих художников Веласкеса и Ван Эйка, Латура и Серова, Дали и Магритта) раскрываются многие зеркальные тайны искусства.
Литературные зеркала - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Да, да, именно остранения, потому что в объективной, скрупулезно выписанной тщательности портрета нельзя не разглядеть вынужденную позу натурщика, позу неестественную и, значит, странную. А снять, уничтожить чары этой неподвижности должно действие, сюжет.
Сколь ни отличается портрет Райского (так сказать, на удостоверении личности) от блистательных в своей изящной легкости набросков «Евгения Онегина», он принадлежит к одной с ними категории портретов действующих, функционирующих, направляющих события… Помните:
Но вот толпа заколебалась,
По зале шепот пробежал…
К хозяйке дама приближалась,
За нею важный генерал.
Она была нетороплива,
Не холодна, не говорлива,
Без взора наглого для всех,
Без притязаний на успех,
Без этих маленьких ужимок,
Без подражательных затей…
Все тихо, просто было в ней,
Она казалась верный снимок
Du comme il faut… [45] Благородство (франц.).
(Шишков, прости:
Не знаю, как перевести.)
И несколько позже:
Беспечной прелестью мила,
Она сидела у стола
С блестящей Ниной Воронскою,
Сей Клеопатрою Невы;
И верно б согласились вы,
Что Нина мраморной красою
Затмить соседку не могла,
Хоть ослепительна была.
А уже в следующей строфе:
«Ужели, — думает Евгений:
Ужель она? Но точно… Нет…
Как! из глуши степных селений…»
И неотвязчивый лорнет
Он обращает поминутно
На ту, чей вид напомнил смутно
Ему забытые черты.
«Скажи мне, князь, не знаешь ты,
Кто там в малиновом берете
С послом испанским говорит?»
Князь на Онегина глядит.
— Aral давно ж ты не был в свете.
Постой, тебя представлю я.
— «Да кто ж она?» — «Жена моя».
Пушкинский портрет — мимолетное виденье, чьи детали ускользают от взгляда. Не детали, а общие впечатления важны в этой живописной увертюре к последующему эпизоду — классической драме узнавания.
И еще одна любопытная вещь. У Пушкина слово «снимок» в самом что ни на есть фотографическом понимании слова подчеркивает зеркальную специфику цитированного отрывка почти столь же настойчиво, как образ «постороннего наблюдателя в шляпе и дорожном пальто» — у Пруста. Но не будем забывать, что дагерротипия получила официальное признание во Франции уже после смерти Пушкина, тогда как Пруст был не только современником зрелого фотоискусства, но и свидетелем первых шагов новой, кинематографической музы. Между тем Пушкин говорит о «снимке» в таком тоне, точно это для него синоним другого привычного термина: «кадр». В этом безмятежном разговоре с будущим, в этом предчувствии, поданном как «текущее», сегодняшнее чувство, я вижу впечатляющий знак гениальной пушкинской интуиции.
Но вернемся к «Обрыву». На той же странице романа, что и портрет Райского, помещено другое словесное изображение — Аянова, тоже подробное и тоже с «заявкой» на полное жизнеподобие («как на картине»): «Иван Иванович был… в черном фраке. Белые перчатки и шляпа лежали около него на столе. У него лицо отличалось спокойствием, или, скорее, равнодушным ожиданием ко всему, что может около него происходить.
Смышленый взгляд, неглупые губы, смугло-желтоватый цвет лица, красиво подстриженные, с сильной проседью, волосы на голове и бакенбардах, умеренные движения, сдержанная речь и безукоризненный костюм — вот его наружный портрет».
Заключительные слова симптоматичны. Писатель словно бы намекает, что наружный портрет — это всего только наружный портрет, что гораздо существеннее для него портрет внутренний и что он, писатель, имеет достаточно сведений, дабы предоставить его нам в самом подробном варианте. Тут же писатель и принимается выполнять свое полувысказанное обещание: «На лице его можно было прочесть покойную уверенность в себе и понимание других, выглядывавшее из глаз.
— Пожил человек, знает жизнь и людей, — скажет о нем наблюдатель, и если не отнесет его к разряду особенных, высших натур, то еще менее к разряду натур наивных».
Уже в этих строках намечается попытка «усреднить» героя, свести его к давешнему «комильфо» «Евгения Онегина». В очередном абзаце курс на «общий знаменатель» выдержан еще более последовательно. На мгновенье даже такое ощущение возникает, будто автор вознамерился создать оскучненный прозаический эквивалент пушкинских строф: «Это был представитель большинства уроженцев универсального Петербурга, и вместе то, что называют светским человеком. Он принадлежал Петербургу и свету, и его трудно было представить себе где-нибудь в другом городе, кроме Петербурга, и в другой сфере, кроме света, то есть известного высшего слоя петербургского населения, хотя у него есть и служба, и свои дела, но его чаще всего встречаешь в большей части гостиных, утром — с визитами, на обедах, на вечерах: на последних всегда за картами. Он и так себе: ни характер, ни бесхарактерность, ни знание, ни невежество, ни убеждение, ни скептицизм».
Конкретизация образа идет от одной позиции к другой, крайности отметаются, во всем господствует золотая середина, о чем можно судить хотя бы по началам текстовых периодов: «Незнание или отсутствие убеждения облечено у него в форму какого-то легкого, поверхностного всеотрицания…»
«Он родился, учился, вырос и дожил до старости в Петербурге, не выезжая далее (перечисляются топографические ориентиры. — А. В.)… с одной… с другой стороны. От этого в нем отражались, как солнце в капле, весь петербургский мир, вся петербургская практичность, нравы, тон, природа, служба — эта вторая петербургская природа, и более ничего».
Акцентирование общераспространенного, типового влечет за собой в реалистическом рассказе усиление рассудочных мотивов, нарастание критицизма, а иногда и комизма, сатиричности, обличительного тона. Перед нами как раз такой случай. Начав с объективной, спокойной ноты, писатель позволяет себе иронию, издевку, чуть ли не сарказм, настолько очевидные, что чуть ли не буквальный отклик на них слышен аж в «Городе Градове» А. Платонова, — и это Гончаров, а не Салтыков-Щедрин.
Сатирическое в «Обрыве»? — могут возмутиться читатели. Ничего подобного, не в «Обрыве», а в портретной новелле об Аянове, которая сейчас вот продолжится еще несколькими абзацами (чуть не вырвалось — строфами: так эти абзацы стройны, так одинаковы, так соизмеримы и по «количествам», и по структурным параметрам, и по чередованию мыслительных рифм и ритмов). И этим практически — да еще письмом Райскому в деревню — вся жизнь Аянова в «Обрыве» исчерпается: сюжетной конструкцией, похожей на двустворчатую раковину. В завязке — насмешливая характеристика «со стороны», намного позже, в кульминации, непроизвольный «самоотчет», автопортрет, каковым обычно в той или иной степени является речевая манера героя-повествователя, «первого лица», по суммарному же впечатлению — концентрированная издевка, сгусток гротеска. А в двустворчатой раковине «портрет — автопортрет» прячется, как жемчужина, не столь уж часто замечаемое украшение романа персонифицированная сатира на Петербург. Портрет перерастает в урбанистический пейзаж, в панораму городской, светской, жизни.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: