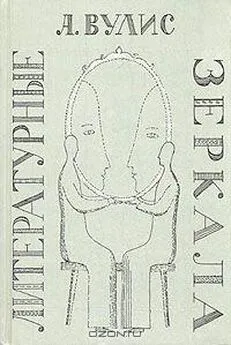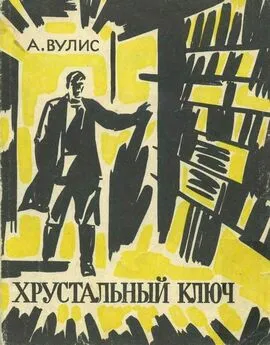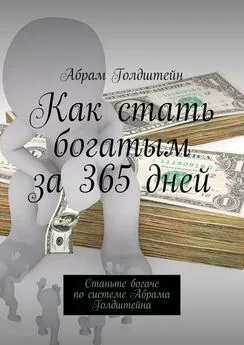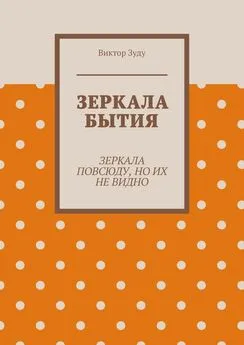Абрам Вулис - Литературные зеркала
- Название:Литературные зеркала
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1991
- Город:Москва
- ISBN:5-265-014-96-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Абрам Вулис - Литературные зеркала краткое содержание
Фантастические таланты зеркала, способного творить чудеса в жизни и в искусстве (которое ведь тоже зеркало), отразила эта книга. В исследовательских, детективных сюжетах по мотивам Овидия и Шекспира, Стивенсона и Борхеса, Булгакова и Трифонова (а также великих художников Веласкеса и Ван Эйка, Латура и Серова, Дали и Магритта) раскрываются многие зеркальные тайны искусства.
Литературные зеркала - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В сопоставлениях Булгакова с Бальзаком существенны два аспекта. Во-первых, то, что «Мастер…» зеркально повторяет детали «Шагреневой кожи». Во-вторых, то, что в числе этих повторений — мотив зеркала в зеркале. Последний — весьма характерная тенденция реализма XIX века: он ведь ищет все новых и новых изобразительных возможностей, позволяющих показывать «всю» правду жизни. Прямое отражение, естественно, доминирует, но ему в помощь совершенствуется система «окрасок», «поправок», акцентов, сообщающих событийной основе произведения важный дополнительный смысл. Иногда — в поддержку первичному, иногда — в шутливую оппозицию, иногда — в противовес (так что под конец и понимать-то рассказанное приходится наоборот).
Развивая метафору «искусство — это зеркало» на фоне авторской трактовки мира — серьезной, авантюрной, сатирической, пародийной и т. п., придется рядом с обычным зеркалом назвать еще и «увеличивающее», «искажающее», «уменьшающее» и т. п. За простыми и кривыми зеркалами следуют целые их комбинации. Ведь, напомню, пародия — это зеркало, в котором отражено (с некими коррективами) другое зеркало, то есть другое литературное произведение, но отражено так, что теперь они неотделимы одно от другого.
А литературные эффекты монтажа, аналогичные зеркальным! Здесь и компоновка материала по схеме «скрыть главное» (техника тайны), и присоединение к сюжету его иносюжетных аналогов (вставные эпизоды, в том числе сновидения, параллельные интриги, мотивировочные речи персонажей и проч.). И смена изобразительных ракурсов: чередование рассказчиков, переключение авторского интереса с одних картин на другие. Все эти художественные возможности, открытые вне реализма или, во всяком случае, вне XIX века, оказываются необходимыми литературе, вернувшейся к повседневному. Зеркала Веласкеса, по-видимому, дают авторам-реалистам свои композиционные советы.
Зеркальные феномены литературы XIX века — это прежде всего ее внешний, композиционный пласт. Но они проникают и глубже, служа, как некий хирургический инструмент, раскрытию дуализма, который от начала времен формировал глубинную конфликтность художественного мира (тело — душа, человек — бог, существование — творчество, покой — движение). Перед зеркалом предстает то человеческое бытие с его величием и бренностью, небесной и земной, плотской и духовной ипостасями (Гоголь и По), то создатель в борьбе со своим созданием (роман М. Шелли «Франкенштейн»).
Обнаруживая двойственность человека, зеркало вместе с тем фиксирует его цельность. По мере своего прогресса на пути к рекордным, лазерным процентам воспроизводимой видимости оно все больше проясняет человеку его «я».
«Я» как самоощущение, как совокупность мыслей, чувств, инстинктов, представлений, суеверий и т. п., как сфера восприятия, опрокинутая вовнутрь, обретает теперь свое лицо — в буквальном и переносном смыслах. Человек в зеркале видит себя таким (или, допустим, почти таким), каким видят его другие. И, сколь ни странно, впервые с такой полнотой осознает себя как сокровенное, как душу. Человек встречается с самим собой.
Мы уже наблюдали раньше, как аналитическая энергия зеркала (здесь лучше сказать — зеркальной техники в литературе) используется испанскими авторами — современниками Веласкеса. Кальдерон открывает сюжет, сочетающий действительность и фантастику на положении равноправных и взаимозаменяемых компонентов целого («Жизнь — это сон»). У Сервантеса реальный план («правда», «настоящее») обрамляет эфемерное: галлюцинацию Дон Кихота и мнимое герцогство его оруженосца. Как два зеркала (или как зеркало с явью) сведено в драме Кальдерона и в романе Сервантеса то, что происходит «на самом деле», и то, что занимает — опять-таки по отношению к героям пространство вымысла.
Аналогичные процессы происходят и вне Испании. Пример: шекспировский «Гамлет» с его «театром в театре», опять-таки практически синхронный Веласкесу. Но и в произведении, и в связях между произведениями только XIX век отводит зеркалу достойное его место…
А теперь нас ждет булгаковский роман.
«Флоберовские» аспекты «Мастера и Маргариты». Упомянем теологические споры в «Искушении святого Антония», продолженные диалогами Воланда и Берлиоза, золотой перезвон стилизованной прозы в «Саламбо», «Иродиаде», «Легенде о святом Юлиане Странноприимце» — эхо этой величественной речи слышно в «Мастере…». В «Искушении…», кроме того, как бы репетируются некоторые сцены Великого бала у сатаны [46] Самый замысел показать историю Христа с позиций сатаны, создать оксюморон евангелия от Воланда, как я писал в свое время («Москва», 1966, № 11), носит пародический — в духе флоберовских стилизаций — характер.
. Флобер — воскреситель скульптурных изваяний, современных Лаокоону, волшебник, оживляющий античность, — несомненно, осеняет своим благословением и примером евангелие от Воланда. У Флобера, если рассматривать его творчество как единый вдохновенный роман, намечается расслоение прозы на «древнюю» и «современную» — будущая стилевая тенденция «Мастера и Маргариты».
Незавершенный роман Флобера «Бувар и Пекюше» являет нам еще одну грань, повернутую к «Мастеру…».
Два Фауста, невольно обнажающие, по словам специалиста, «недостатки научного метода», ведут разговоры, предсказывающие дискуссию на Патриарших прудах.
«— Имея начало, душа наша должна быть конечной и, находясь в зависимости от органов, исчезнуть вместе с ними.
— Я ее считаю бессмертной. Не может бог хотеть…
— А если бога не существует?
— Как?
И Пекюше выложил три картезианских доказательства:
— Во-первых, бог содержится в нашем понятии о нем; во-вторых, существование для него возможно; в-третьих, будучи конечным, как мог бы я иметь понятие о бесконечности? А раз мы имеем это понятие, то оно исходит от бога, следовательно, бог существует!»
У истока теологических споров в литературе, будь то Рабле или Бальзак, Флобер или Булгаков, — вселенский схоластический диспут средневековья, запечатленный в религиозных текстах, философских трактатах, катехизисах и восходящий к диалогам Платона. Воспроизведенные романами, эти споры одновременно и похожи друг на друга, и очень друг от друга отличаются. Потому что их предмет, в конечном счете, добро и зло, смысл которых каждый писатель понимает по-своему и соответственно по-своему воплощает, тем самым вступая в полемику со своими коллегами — вчерашними и сегодняшними. Зеркала смотрят на «отражаемое» под разными углами.
Многие мотивы Флобера получают продолжение и развитие у португальского классика Эсы де Кейроша. Эса, в частности, воспринимает и, преодолев, воспроизводит крупным планом некоторые флоберовские темы и ситуации, увлекшие затем Булгакова. Наиболее приметным фактом зависимости между Кейрошем и Флобером, с одной стороны, Булгаковым и Кейрошем — с другой, является роман «Реликвия», точнее, третья его глава, которая по принципу «зеркало в зеркале» уводит нас в прошлое. Эта глава преломляется в библейских эпизодах «Мастера и Маргариты». Но преломление в данном случае это еще и отталкивание.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: