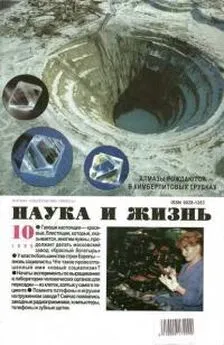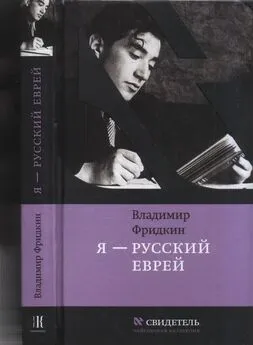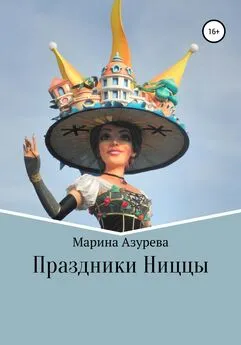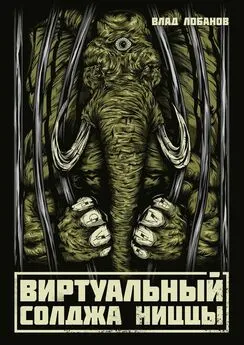Владимир Фридкин - Фиалки из Ниццы
- Название:Фиалки из Ниццы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Аграф
- Год:2008
- Город:Москва
- ISBN:978-5-7784-0371-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Фридкин - Фиалки из Ниццы краткое содержание
Как бы путешествуя во времени и пространстве, автор — физик и литератор — рассказывает об ушедших героях и преемственности исторической судьбы России. О том, что между Вяземским, другом Пушкина, и ныне живущим поколением — несколько рукопожатий. О том, что над недавними идеалами лучше всего смеяться, что на вопросы «что делать?» и «кто виноват?» пора уже не искать ответа. И о том, что терять надежды нельзя.
Фиалки из Ниццы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Мы уже почти входили в церковь, когда я неожиданно вспомнил рассказ нашего поэта Олега Чухонцева о том, как на вопрос «за что вы любите родину?» он получил от молодого читателя журнала ответ: «Я люблю нашу родину, особенно за ее огромные размеры». Вяземский остановился и с изумлением посмотрел на меня. Сказал, что имени этого поэта никогда не слышал. А я опять понял, что выпал из времени. Я успокоил его, придумав, что молодой и еще неизвестный поэт только что вернулся в Москву из одного французского католического пансиона.
— Мне уже надоели эти географические фанфаронады наши: от Перми до Тавриды и прочее. Что же тут хорошего, чем радоваться и хвастаться, что мы лежим врастяжку, что у нас от мысли до мысли пять тысяч верст?
— Ведь еще Монтескье полагал, что самые тиранические режимы утверждаются над большими пространствами, — сказал я и, подумав, добавил, — хотя, конечно, не всегда.
В огромной церкви Дей Фрари было пусто, вечерняя служба еще не началась. Мы постояли у гробницы Тициана и Кановы. Вяземский сказал:
— Памятник Кановы сооружен по европейской подписке. Это напоминает реквием Моцарта, который, не угадывая того, сам себя отпел. В числе подписчиков — русский император, Голицыны, Демидовы, Разумовские, Аникьевы. Этот способ передавать имя свое бессмертию, говоря «и моего тут меда капля есть», приличней общей страсти путешественников пачкать стены скал и зданий уродливыми начертаниями своих имен…
На это я сказал, что знаю одно исключение. В Шильонском замке на колонне, к которой был прикован цепями прославленный Байроном Франсуа Бонивар, поэт вырезал ножом свое имя. И эту подпись автора «Шильонского узника» бережно сохраняют под стеклом и я сам ее видел.
Вяземский тут же встал на защиту Байрона:
— Канинг сказывал, что Байрон был человек великой души, но слабых нервов и слишком подвержен потрясению под силой внешних впечатлений.
Мы перешли по мосту на другую сторону и направились к площади святого Марка. И Вяземский спросил, что говорят о грядущих реформах. При слове «реформы» я собрался было сказать, что они не грядут, а вроде бы сворачиваются, да вовремя вспомнил о времени и о том, какие реформы князь имеет в виду. И ответил только:
— На реформы одна надежда.
Князь снова в раздражении махнул рукой.
— Будет как всегда: скачок вперед, скачок назад, а то и в сторону.
— Да все бы ничего, — ответил я, — если бы не коррупция, взяточничество и бюрократизм.
И князь живо откликнулся:
— Взяточничество у нас один из способов пропитания. Был у меня поэт, литератор, молодой Перец или Перцов, принес свою книжку «Искусство брать взятки». В его шаловливых стихах, которые Александр Пушкин читал мне наизусть, много перца, соли и веселости. Он теперь, говорят, служит в «Северной Пчеле».
— Нашел подходящее место, — ввернул я.
— А Карамзин говорил, что если бы отвечать одним словом на вопрос: что делается в России, то пришлось бы сказать: крадут. Он был непримиримый враг русского лихоимства. Один умный человек говорил, что в России честному человеку жить нельзя, пока не уничтожат следующих приговорок: «без вины виноват», «казенное на воде не тонет и в огне не горит», «все Божие, да Государево». А Беклешов толковал таким образом происхождение слова таможня: там можно.
— Сейчас всюду можно. Всюду лгут, изворачиваются и крадут.
— Есть лгуны, своего рода поэты. Возьмите, например, князя Ц. Во время проливного дождя является он к приятелю. «Ты в карете?» — спрашивают его. «Нет, я пришел пешком». — «Да как же ты не промок?» — «О, отвечает он, я умею очень ловко пробираться между каплями дождя».
Я охнул про себя. Ведь это же анекдот про нашего Микояна. Только он ездил не в карете, а в большом черном ЗИЛе. Нет, ничего не меняется на Руси, даже анекдоты.
— Судьбы России поистине неисповедимы, — продолжал князь. — Можно полагать, что у нас выдуман Русский Бог, потому что многое у нас творится совершенно вне законов, которыми управляется все прочее мироздание. В составленной П. А. Валуевым записке он пишет: «В творениях нашего официального многословия нет места для истины. Отделите сущность от бумажной оболочки, правду от неправды. Сверху блеск, внизу гниль…
Вяземский помолчал и добавил:
— Сей напечатанный циркуляр был после отобран… А Полетика сказал, что в России от дурных мер, принимаемых правительством, есть спасение: дурное исполнение.
— А еще наше беспробудное пьянство.
— Кажется, можно без зазрения совести сказать, что русский народ вообще поющий и пьющий. Наш простолюдин поет и пьет с радости, с горя и со скуки. Поет и пьет за работой и от нечего делать, в дороге и дома, в праздники и будни. Кажется, князь Цицианов, известный поэзией рассказов, говорил, что в его деревне одна крестьянка разрешилась от долгого бремени семилетним мальчиком, и первое слово его в час рождения было: «дай мне водки!» Может быть, и мы начали пропитание свое не с молока матери, а прямо с водки. Не знаю, кто-то рассказывал мне, кажется Дельвиг, о чиновной чете, жившей напротив его дома. Каждый день после обеда они чиннехонько выйдут на улицу, муж ведет сожительницу под руку, и пойдут гулять. Вечером возвратятся пьяные, подерутся, выбегут на улицу, кричат караул, и будочник придет разнимать их. На другой день та же супружеская прогулка, к вечеру то же возвращение и та же развязка.
Князь вздохнул и добавил:
— Запой — это медленное и унизительное русское самоубийство.
— А у чиновных людей сейчас в ходу говорить, что у России будто бы только два несчастья: дураки и плохие дороги.
— Дороги делали ежегодно и по нескольку раз в год, переделывали их и все-таки не доделывали, разве под проезд государя. А там опять начнется землекопание, ломка, прорытие канав и прочее… А дураки… Это лица такого рода, что не усомнились бы взять на себя формировку конных полков в Венеции.
Сказав это, Петр Андреевич взглянул через просвет колонн Тодаро и Марко на широкий морской простор.
— Или вот еще. Один перчаточник просил у городского начальства позволения выписать на вывеске известный стих из трагедии «Димитрий Донской»: Рука Всевышнего Отечество спасла.
— Есть дураки и почище. Бунин в воспоминаниях рассказывает о нижегородском купце, оставившем все свое состояние на памятник… кому бы вы думали?.. Гегелю. Бунин прочел в газете и чуть не умер со смеха, — сказал я, и тут же почувствовал, что самому мне не до смеха. Но было поздно.
Вяземский оживился и спросил, кто этот Бунин. Не родственник ли Анны Петровны, поэтессы, тетки Василия Андреевича?
— Он. Он самый, потомок Жуковского, — обрадовался я, что на сей раз врать не пришлось.
Обогнув дворец дожей, мы вышли на славянскую набережную.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
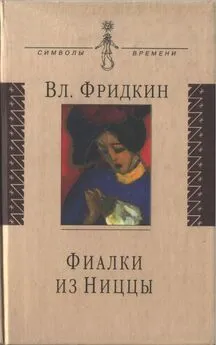

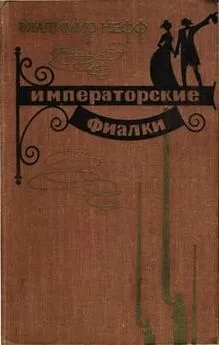
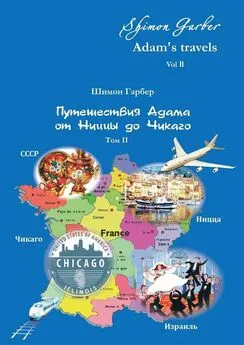
![Андре Моруа - Фиалки по средам [сборник рассказов]](/books/1064508/andre-morua-fialki-po-sredam-sbornik-rasskazov.webp)