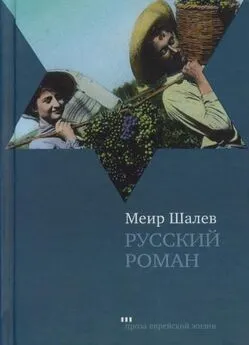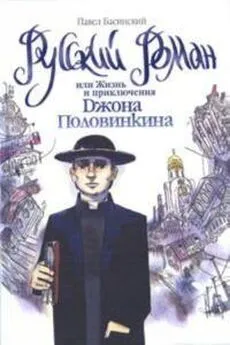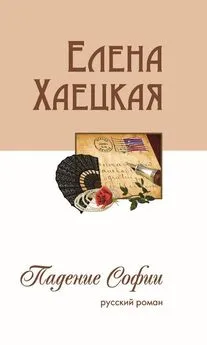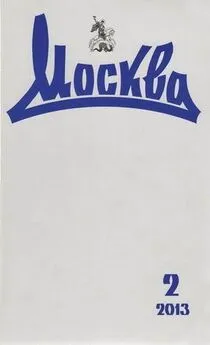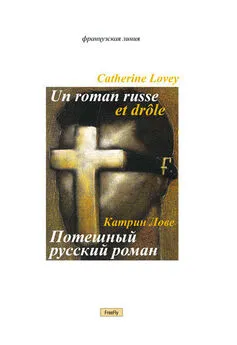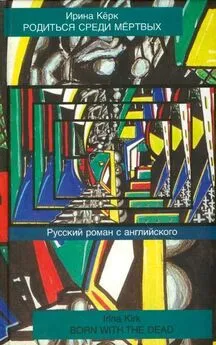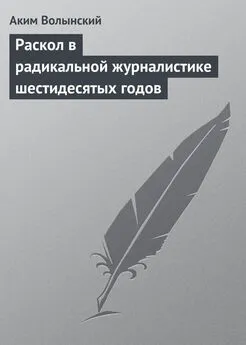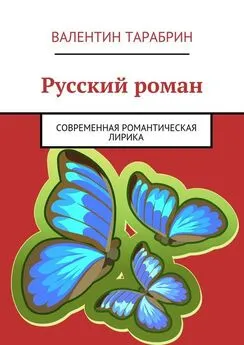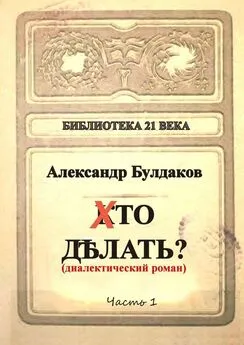Г Тамарченко - Что делать и русский роман шестидесятых годов
- Название:Что делать и русский роман шестидесятых годов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Г Тамарченко - Что делать и русский роман шестидесятых годов краткое содержание
Что делать и русский роман шестидесятых годов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
По существу у Чернышевского (как затем и у Толстого в "Войне и мире") рассуждения "от автора" вовсе не являются "отступлениями"; это прямое продолжение того же аналитического осмысления жизни, которое развертывалось по ходу сюжета во взаимоотношениях и поступках героев, в анализе психологических мотивов их поведения и т. п. "Публицистическими отступлениями" или "отступлениями историко-философскими" эти авторские рассуждения называют лишь по инерции - в противоречие с признанием за ними конструктивного художественного значения.
Толстой в "Войне и мире" вводит в структуру романа разработанный Герценом (но восходящий еще к Пушкину) прием свободного перехода от изображения "частной" жизни к философии истории, от бытовой и психологической характеристики вымышленных персонажей к такому же детальному психологическому анализу поведения исторических лиц.
Таким образом, Толстой-романист использует в целях полемики идейно-художественные открытия противников - ту новую ступень художественного историзма, которая проявляется у Герцена и Чернышевского в утверждении своеобразного "параллелизма", а точнее - взаимодействия законов истории и психологии. К этому толкает его как раз полемическая установка: вере в прогресс и в науку (и связанному с ней убеждению в способности выдающейся личности оказывать могущественное влияние на ход исторических событий) Толстой противопоставляет иную точку зрения; он утверждает стихийный характер исторического процесса, его неподконтрольность воле и разумению отдельного, хотя бы и выдающегося деятеля.
Художественный результат такой полемики оказался неожиданным и даже парадоксальным. Толстой с громадной художественной силой показал, что решающую роль в движении и исходе исторических событий, изображенных в "Войне и мире", играют не чьи бы то ни было претензии целенаправленно "двигать" историю, а стихийная жизнедеятельность громадных человеческих массивов, втянутых в эти события. Поведение каждого из участников этих событий в свою очередь подсказано "роевой" жизнью с ее бесконечно разнообразными повседневными интересами, стимулами и чувствами.
В "Войне и мире" новая стадия проникновения романиста в "диалектику души" художественно согласована с решением новых для Толстого вопросов: о движущих силах истории, о ее глубинных закономерностях.
Проблема взаимосвязи истории и психологии, выдвинутая Герценом и Чернышевским, получила у Толстого более полное художественное раскрытие, чем это было доступно не только Чернышевскому, но и Герцену. Роман Толстого оказался в итоге не отрицанием "исторического воззрения" (как это входило в исходную полемическую задачу автора) и не возвратом к представлениям о "вечных", неизменных на все времена законах духовной жизни, а наоборот бесконечным углублением и обогащением художественного историзма.
Исследователи справедливо указывают, что выбор эпохи войн с Наполеоном связан в "Войне и мире" - со стремлением Толстого воспроизвести "эпическое состояние мира", требующее в качестве своей основы событий общенационального значения. Утверждая поэзию патриархально-роевой жизни, романист видел в первой отечественной войне тот узел истории, который объединил людей в общенациональном масштабе.
Такое истолкование источника эпической силы "Войны и мира" недавно было дополнено новым, очень существенным оттенком. Отвергая буржуазную цивилизацию "главным образом за ту разобщенность, которую она несла с собой", романист "с наслаждением окунулся в "пору", отмеченную пафосом стихийно возникшей всеобщности", в эпоху "отечественной войны с ее рубежной ситуацией между жизнью и смертью для всей нации в целом и для каждого в отдельности". {С. Розанова. Толстой и Герцен. М., 1972, стр. 223.} В этом смысле особенно убедителен один из черновых набросков Толстого, приведенный С. Розановой в подтверждение своей мысли и объясняющий выбор не только эпохи, но и героев "Войны и мира": "Я буду писать историю людей, более свободных, чем государственные люди, историю людей, живших в самых выгодных условиях жизни для борьбы и выбора между добром и злом, людей, изведавших все стороны человеческих мыслей, чувств и желаний, людей таких же, как мы, могущих выбирать между рабством и свободой, между образованием и невежеством, между славой и неизвестностью, между властью и ничтожеством, между любовью и ненавистью, людей, свободных от бедности, от невежества и независимых". {Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч. в 90 томах, т. 13. М., 1949, стр. 72.}
С. Розанова несомненно права, когда утверждает, что такой "герой свободного выбора" вполне сопоставим с ведущим действующим лицом герценовской исповеди, сквозной темой которой является изображение "человечески сильного и человечески прекрасного развития", "образование свободного человека". {С. Розанова. Толстой и Герцен, стр. 236.} В творческом сознании самого Толстого такой герой полемически сопоставлен также и с "новыми людьми" Чернышевского, тоже ведь людьми "свободного выбора", "человечески сильного и человечески прекрасного развития".
В эпохе войн с Наполеоном Толстой находит не только поэзию сравнительно еще раннего этапа истории, не расколотого противоречиями буржуазной цивилизации, - поэзию, обращенную в прошлое. Грандиозные события национальной жизни оказываются у него также общественной почвой для возникновения нового уровня нравственных потребностей и интеллектуальных исканий личности.
Здесь впервые Толстой ставит в центр повествования также и людей напряженной интеллектуальной жизни - Пьера Безухова и Андрея Болконского. Художественная сила и обаяние этих образов - это поэзия, обращенная уже не в прошлое, а в будущее, прямой творческий отклик Толстого на возросшую роль идей, интеллекта, мышления. При этом, однако, полноценный интеллектуальный герой у Толстого немыслим без того богатства и поэтичности душевной жизни, которое свойственно его же героям эпического плана. Без такой опоры на богатство эмоциональной жизни интеллектуализм превращается, по художественной концепции Толстого, в сухую рассудочность, глухую к многообразию жизни и в конечном счете всегда тупо эгоистическую.
Художественная трактовка интеллектуального героя полемична в "Войне и мире" как по отношению к либеральному прогрессизму, так и по отношению к просветительскому рационализму, в частности к Чернышевскому. И в этом случае полемика оказалась художественно необычайно-плодотворной. Особенно важны с этой точки зрения образ и судьба князя Андрея. Пьер Безухов - человек, гораздо больше подвластный стихии чувства, - является укрупнением того же типа рефлектирующего героя, героя с пробужденной совестью, который и раньше разрабатывался Толстым. Князь Андрей - человек интеллектуально-волевого склада - характер новый в творчестве самого Толстого.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: