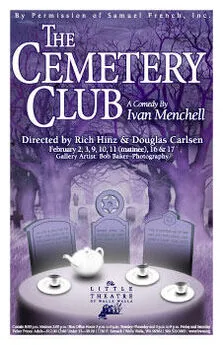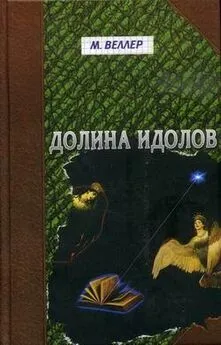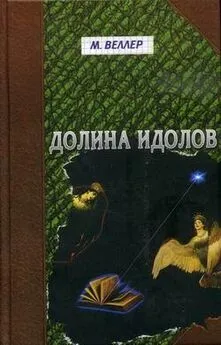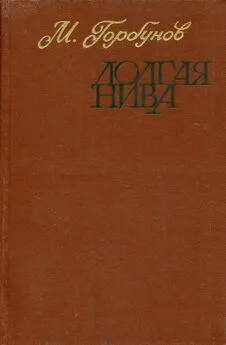Михаил Горбунов - К долинам, покоем объятым
- Название:К долинам, покоем объятым
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Воениздат
- Год:1991
- Город:Москва
- ISBN:5-203-00330-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Горбунов - К долинам, покоем объятым краткое содержание
В новую книгу прозы М. Горбунова вошли повести и рассказы о войне, о немеркнущем ратном подвиге, в котором слились воедино и солдатская доблесть, и женская любовь.
Творчество М. Горбунова — самобытное исследование глубинной связи поколений, истоков мужества нынешних защитников Родины. Включенная в сборник повесть «Я становлюсь смертью» возрождает перед читателем трагедию Хиросимы в ее политических, военных, моральных аспектах.
Сборник рассчитан на массового читателя.
К долинам, покоем объятым - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Родом Говоров был из уральских казаков, степной вольницы, чьи судьбы — торговлей, а часто и обоюдными бранными набегами — издревле переплетались с Востоком. Ведь и по реке Уралу, стержневой артерии казачества, легла граница меж двумя частями света, и цари русские держали уральских казаков оплотом на рубеже с чужеземьем, земля за рекой, ковыльная, полынная, нестерпимо знойная летом и ветровая, вьюжная, скованная холодом зимой, по сию пору зовется Бухарской стороной.
Когда были живы дед и его сестра, которую все звали бабушкой Любой, Говорову, по младости, не приходило на ум углубиться в свою родословную, чтобы понять, почему и дед, и особенно бабушка Люба имели в чертах лица явное восточное «влияние». Бабушка Люба была вылитая турчанка, маленькая, смуглая, тонкая, до старости чернобровая, черноглазая, от России взяла она лишь безграничную душевную доброту, оставившую в Говорове щемящую память.
За собой Говоров «ничего не замечал», но и ему часто намекали на Восток, будто бы отдаленно сквозящий в его лице. Но вот когда родилась дочь и Говоров увидел ее, он был ошеломлен: бабушка Люба из своей немыслимой дали проступила в маленьком, с кулачок, личике, — из-под черных, как рисованных, бровок, сквозь водянистую пленку еле приоткрытых щелочек глядели ее невероятно знакомые глаза… Дочку назвали Любой, Говоров был втайне горд, что она похожа на него, ревниво видел в ней наследственную ветвь. Он всегда страдал, когда Любочка не оправдывала его надежд, как бы изменяла ему…
Он остался один. За окном, к которому близко подступал серовато-голый, подрагивающий на слабом ветру ольховник, по-мушиному плясал в зимнем сумеречье снежок. За чащобой тонких деревьев угадывалась деревушка, и там непрерывным тонким лаем заливалась собака. Говоров пробовал заснуть, но состояние не то тревоги, не то вины все держало его после ухода дочери, и еще лаяла собака, ввинчиваясь в мозг. Читать не хотелось, да и никакая книга не помогла бы ему сейчас.
Как спасительный зайчик света, ему вспомнился буфет при входе в столовую — темного, почти черного дерева шкаф, заставленный бутылками в пестрых этикетках, кофейная стойка, за которой управлялась седовласая, спокойная, не буфетного вида, женщина. Возле буфета всегда толпились мужчины… Перед отъездом сюда он решил не брать в рот, только отдых, прогулки, трезвые раздумья по прошествии дней. Но сейчас его напугало сиротское пребывание в казенно обставленной комнате, потонувшей в ранних зимних сумерках, и он стал лихорадочно одеваться.
Буфет оказался закрытым, официантка, прибиравшая столы, взглянула на часики, сказала равнодушно:
— Ужина придется ждать.
— А где можно?.. — Говоров неловко осекся.
Но официантка поняла его, сказала с прежним безразличием:
— В село бегают… Как выйдете, сразу налево, по аллее. — Она усмехнулась: — Дорога сама укажет, тут близко…
Аллея, пролегшая по краю оврага, меж огромных сумрачных елей с затвердевшими подушками снега на лапнике, переходила в проселок, а угрюмоватый ельник — в чистую, рябящую стволами березовую рощу. Здесь было светлее, просторнее, но глуховатый серый день с еле различимой игрой снега все же приближался к исходу, средь стволов, над клочковато-белой неразберихой подроста висел тихий ватный сумрак. Говоров медленно шел по дороге, наледенелой после оттепели, березы уходили высоко, еле заметно мели серое небо. Было просторно, чисто, как в храме, мысль о магазине, казалось, отошла в сторону.
Впереди что-то затемнело, группка людей под призрачной зыбью берез копошилась, расходясь и сходясь, по доносившемуся смеху можно было угадать молодые голоса. От группки отделилось что-то большое и бесформенное, стало приближаться к Говорову, и вскоре он понял, что навстречу трусит лошадь, разбито вихляющая коняга, и на ней кто-то сидит в красном, он не мог поверить глазам: на лошади сидела Любочка. Те, что остались на месте, что-то кричали ей, она смеялась, еле удерживаясь в седле, но вдруг увидела отца, обмерла, не понимая, как он здесь очутился.
— Что это такое? — выдавил Говоров.
Дочь хлопнула коленками по лошади.
— Это? Это Кузя. — Она зарылась пестрыми варежками в белесую, бесформенно распавшуюся надвое гриву, повторила ласкательно, уже к лошади: — Кузя, Кузя, бедный старичок Кузя…
Лошадь стояла, всхрапывая, подаваясь к Говорову большой головой, из-под сбившейся на одну сторону сивой челки с пристальным ожиданием глядел черный влажный зрачок. Несвеже пахло конским потом, отволглой сыромятиной, лошадь вблизи была совсем небольшой и, видно, в самом деле вершила жизнь, все в ней угловато разваливалось, острая, как у худой коровы, грудь ходила с сипом.
— Тут… Как он называется… Конюх, что ли, при подсобном хозяйстве, дает покататься, — как бы оправдывалась Любочка перед мрачно молчавшим отцом. — Ребята ему купили бутылку, ну, мы по очереди и катаемся.
— Люба! Давай назад! — донесся от толпы ломкий задушенный голос, неприятно удививший Говорова своей фамильярностью.
Любочка досадливо передернула плечами, сделала вид, что не слышит. А Говорову мучительно не захотелось видеть ни Любочки, ни лошади, он со слепыми глазами обошел их, чувствуя, как сильно давит в груди.
— Ну, что ты, пап! — донесся сзади жалобный голос дочери.
Он не обернулся, молча прошел мимо группки примолкших в стороне парней, лишь конюх, далекий от психологии момента, тщедушно зряшный среди них, что-то говорил, пьяно водя снятой с головы шапкой…
Когда Говоров возвращался из деревни, ни конюха с лошадью, ни студентов в роще не было. Любочки не было и в комнате, погрузившейся во мрак средь большого, пустынного особняка. Подспудно все время в ушах Говорова стояло жалобное Любочкино «Ну, что ты, пап…», в втайне от себя он все же надеялся, что застанет ее дома с такой знакомой виновато-лукавой улыбкой черных, по-ребячьи сверкающих глаз, всегда обезоруживавших его. Но дочери не было, и это лишило Говорова последнего запрета.
Верхний свет он включать не стал, будто боялся какого-то опознания, нажал кнопку небольшого светильничка возле своей кровати, этого ему было достаточно. Извлеченная из грудного кармана пальто отяжелявшая его темная куцая бутылка еще хранила складской холодок сельмага. Говоров торопясь налил в стакан, выпил, чуя резкий запах дешевой водки, занюхал куском прихваченного в магазине черного кислого хлеба. Только после этого он снял пальто, упал в громоздкое старое кресло и впервые со дня похорон жены заплакал.
Не тогда, в промозглый январский день, стоя над грубо разъятой средь чистого снега, дернинно дышащей ямой, ничего не слыша и не соображая, безучастно глядя на четверых парней в вымаранных глиной черных робах, на то, как они, раздавливая кирзовыми сапогами крупитчато смерзшиеся охряные комья глины, торопливо, словно при повешении, заводили под гроб истертую веревку, — не тогда, а теперь, «задним числом», Говоров почувствовал, как он одинок.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
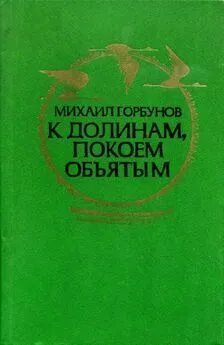

![Михаил Горбунов - Белые птицы вдали [Роман, рассказы]](/books/398446/mihail-gorbunov-belye-pticy-vdali-roman-rasskazy.webp)