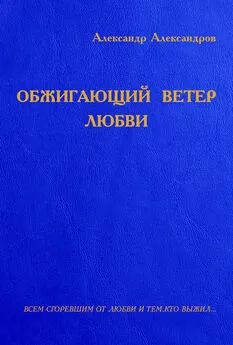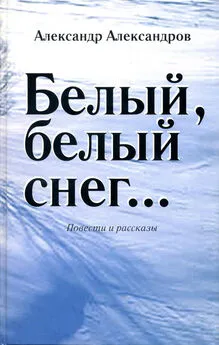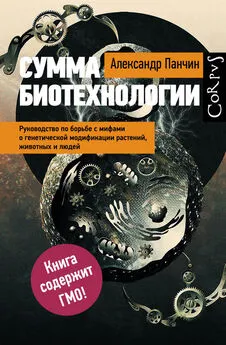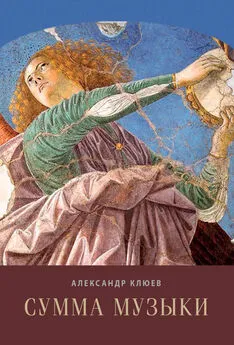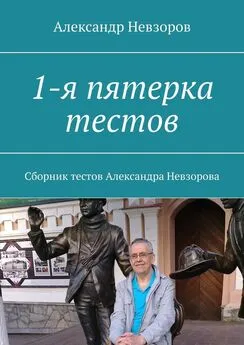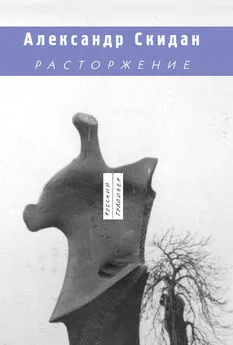Александр Скидан - Сумма поэтики (сборник)
- Название:Сумма поэтики (сборник)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ЛитагентНЛОf0e10de7-81db-11e4-b821-0025905a0812
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-0438-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Скидан - Сумма поэтики (сборник) краткое содержание
В новой книге Александра Скидана собраны статьи, написанные за последние десять лет. Первый раздел посвящен поэзии и поэтам (в диапазоне от Александра Введенского до Пауля Целана, от Елены Шварц до Елены Фанайловой), второй – прозе, третий – констелляциям литературы, визуального искусства и теории. Все работы сосредоточены вокруг сложного переплетения – и переопределения – этического, эстетического и политического в современном письме.
Александр Скидан (Ленинград, 1965) – поэт, критик, переводчик. Автор четырех поэтических книг и двух сборников эссе – «Критическая масса» (1995) и «Сопротивление поэзии» (2001). Переводил современную американскую поэзию и прозу, теоретические работы Поля де Мана, Дж. Хиллиса Миллера, Жана-Люка Нанси, Паоло Вирно, Геральда Раунига. Лауреат Тургеневского фестиваля малой прозы (1998), Премии «Мост» за лучшую статью о поэзии (2006), Премии Андрея Белого в номинации «Поэзия» (2006). Живет в Санкт-Петербурге.
Сумма поэтики (сборник) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В маленьких детских платьях Глюкли, подвешенных ли к потолку, забранных ли в стеклянный саркофаг, равно как и в перформансах ФНО, балансирующих на грани между сеансом групповой психотерапии и магическим ритуалом, обращаясь к нашему коллективному бессознательному, к детским секретам, грезам, ночным страхам и сновидениям, посредником-медиумом неизменно выступает – в различных обличьях и под разными именами – один и тот же концептуальный персонаж, одна и та же возвышенная над половыми различиями фигура. Род странного существа с «ребенком внутри», с сублимированной генитальностью. Средний род, о котором, дабы не осквернить его «сильной» интерпретацией, можно говорить и в комическом, самопародийном ключе, как о чем-то «среднем между ангелами и мешками с картошкой» [238]. Но можно и так, как это делает французская теоретик феминизма Люс Иригарей, переосмысляющая западную (монотеистическую) традицию – под знаком полового различия с его предельной, «падшей» материальностью, воплощенной в слизистых оболочках, порах и коже:
Ангелы, скорые вестники, благодаря этой скорописи проницающие любые преграды, ангелы сообщают путь между оболочкой Бога и оболочкой мира, микро– и макрокосмом. Они объявляют, что этот путь доступен телу человека-мужчины. И, более того, женщины. Они – прообразы, провозвестники иного воплощения, иного пришествия тела. Несводимые к философии, богословию, морали, ангелы выступают как посланцы этики, вызывающей к жизни искусство – скульптуру, живопись, музыку, – которое не говорит и не может сказать ничего, кроме действия, их (ангелов) представляющего [239].
Глюкля, Цапля и их «девушки» сообщают этот путь, делают его доступным нашему телу. Неудивительно, что их артистическая деятельность все активнее вмешивается в повседневную «низкую» реальность, обретая подчеркнутый социальный пафос и легко проницая границы между внешним и внутренним, материальным и нематериальным, литературой и визуальными искусствами, мужским и женским. Ибо, может статься,
сексуальная, плотская этика потребовала бы явления ангела и плоти в (одном) месте. Построить или перестроить мир. От малого до великого, от личного до политического, – порождение любви между полами еще только в становлении. Мир надо создать или пересоздать так, чтобы мужчина и женщина могли (заново или наконец) сосуществовать, встречаться и иной раз находиться вместе – в одном месте [240].
Другое имя этого «места» – не менее парадоксальное «вечно женственное», постоянно возобновляющая себя невинность, как ее понимал Эмманюэль Левинас, феноменологии эроса которого Иригарей посвящает заключительную главу книги.
Любимая, ощущаемая, но в своей наготе остающаяся незапятнанной, по ту сторону объекта, лица и, следовательно, по ту сторону сущего, пребывает в чистоте. Женское, по сути своей одновременно и доступное насилию, и неподвластное ему, «Вечно Женственное» – это девственность, или постоянно возобновляющая себя невинность, которая остается нетронутой даже в объятиях сладострастия в настоящем – будущем. Это не свобода в борьбе с поработителем, протестующая против своего овеществления и объективации: это – хрупкость на грани небытия, небытия, где пребывает не только то, что угасаети чего уже нет, но и то, чего еще нет. Непорочность остается неприкосновенной, умирая без убийства, обессиленная, укрываясь в собственном будущем, которое находится по ту сторону возможного, доступного предвидению [241].
Место; экран. Легкое дыхание, сочетающее тело и плоть, материальное и воображаемое, личное и политическое; цвет – и не оскверненная им, остающаяся девственной белизна.
Живопись на процессе истории [242]
Один и тот же городской вид представлен на выставке в двух версиях: живописной и фотографической. Это удвоение, само по себе, возможно, и не новое, заставляет задуматься о проблеме нетождества и, слой за слоем снимая «чисто» изобразительные и культурные смыслы, приблизиться к тому между живописью и фотографией, которое может оказаться отнюдь не «чистым» и отнюдь не очевидным.
Петербург традиционно ассоциируется с мороком, фантасмагорией, двойничеством. Это наследие романтической традиции подразумевает несоответствие видимости (прекрасной) и ее изнанки (чудовищной), трагический разлад сущности и явления, способный привести к крушению прекрасного величественного фасада и безумию, как в «Медном всаднике» или «Невском проспекте», задающих матрицу «петербургского текста». В петербургских пейзажах Вальрана ничего подобного нет. Они поразительно «пусты», очищены не только от излишних архитектурных деталей, бытовых подробностей и людей, но и от шлейфа мифологических, литературных, исторических отсылок и наслоений. Художник словно бы совершает редукцию, феноменологическое эпохе́, обращаясь через головы прославленных предшественников к догоголевской, допушкинской эпохе: к классической утопии XVIII века, последний раз ожившей, кажется, в графике Остроумовой-Лебедевой и ранней прозе Константина Вагинова, который писал: «В Петербурге нет и не было туманов, он ясен и прост, и небо над ним голубое. Колонны одами взлетают к стадам облаков» («Звезда Вифлеема», 1922).
Эта классическая утопия графична, а не живописна, и восходит к панорамной оптике, запечатленной в перспективах (планах) Петербурга XVIII века (прежде всего у гениального Михаила Махаева). Что особенно завораживает в старинных «гравированных видах» Петербурга сегодня, так это – наряду с потрясающей прописанностью мельчайших деталей – «вненаходимость» точки, из которой простирает свой взгляд рисовальщик, чей глаз, кажется, совпадает с всевидящим Божественным оком. (Махаев взбирался на колокольни или специально возведенные помосты и оттуда, используя камеру-обскуру, делал первые наброски.) Ровный Божественный свет, не знающий препятствий, не оставляющий ни одного темного пятна или закутка, освящает и разворачивает город-утопию. Свет, который будет, кажется, литься вечно, потому что вечен его источник, вынесенный за рамки плана-перспективы, как Благо у Платона вынесено за пределы Бытия.
Такая паноптика действительно напоминает платоновскую теорию, т. е., по-гречески, эпифанию (и империализм) света, и не случайно Вальран тоже выбирает непривычно высокие, «возвышенные» точки обзора для своих «панорам» и в целом описывает свой подход в терминах платоновской «идеи» и юнговского «архетипа». (Вообще, надо сказать, Вальран – художник на редкость интеллектуального склада, в высшей степени сознательно подходящий к работе. Думается, он глубоко впитал и очень творчески, очень по-своему переработал опыт концептуализма, перенеся критику изобразительного языка из области идеологических клише внутрь, в плоскость самой картины как «эйдоса». Отголоски этого опыта заметны и в коллективных проектах, организатором и куратором которых он выступает.) И здесь мы подходим, возможно, к главной загадке его пейзажей.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: