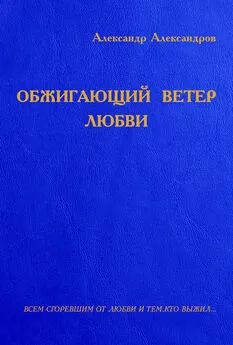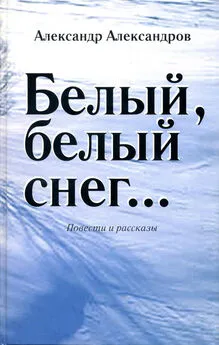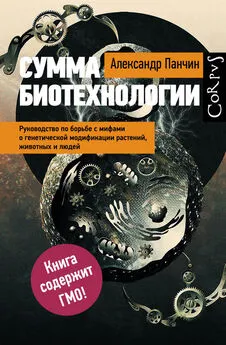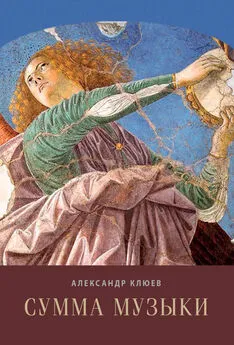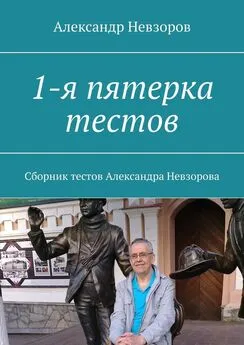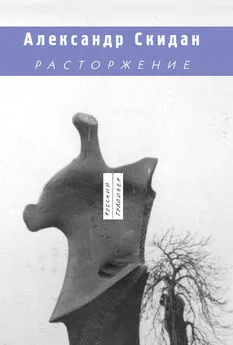Александр Скидан - Сумма поэтики (сборник)
- Название:Сумма поэтики (сборник)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ЛитагентНЛОf0e10de7-81db-11e4-b821-0025905a0812
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-0438-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Скидан - Сумма поэтики (сборник) краткое содержание
В новой книге Александра Скидана собраны статьи, написанные за последние десять лет. Первый раздел посвящен поэзии и поэтам (в диапазоне от Александра Введенского до Пауля Целана, от Елены Шварц до Елены Фанайловой), второй – прозе, третий – констелляциям литературы, визуального искусства и теории. Все работы сосредоточены вокруг сложного переплетения – и переопределения – этического, эстетического и политического в современном письме.
Александр Скидан (Ленинград, 1965) – поэт, критик, переводчик. Автор четырех поэтических книг и двух сборников эссе – «Критическая масса» (1995) и «Сопротивление поэзии» (2001). Переводил современную американскую поэзию и прозу, теоретические работы Поля де Мана, Дж. Хиллиса Миллера, Жана-Люка Нанси, Паоло Вирно, Геральда Раунига. Лауреат Тургеневского фестиваля малой прозы (1998), Премии «Мост» за лучшую статью о поэзии (2006), Премии Андрея Белого в номинации «Поэзия» (2006). Живет в Санкт-Петербурге.
Сумма поэтики (сборник) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В случае Брехта все, казалось бы, не столь самоочевидно. Однако при более внимательном рассмотрении легко обнаружить, что с немецким поэтом и реформатором театра Пригова объединяет как минимум два основополагающих принципа (на поверку их больше). Во-первых, это техника Verfremdungseffekt , «эффекта очуждения», восходящего к «остранению» русских формалистов, но, в отличие от последнего, направленного у Брехта не просто на деавтоматизацию восприятия, а на прерывание эстетической иллюзии как «ложного сознания». Подобно тому как в брехтовском театре актер не перевоплощается в персонаж пьесы, а показывает его, занимая по отношению к нему критическую дистанцию, – ДАП в своих текстах постоянно «выходит из роли», обнажая искусственность, сделанность текстовой конструкции, наряду с конструкцией («персонажностью») лирического субъекта. Оба обращаются к рациональным, аналитическим способностям реципиента, а не к средствам внушения, гипноза и (со)переживанию; там же, где вживание и гипноз имеют место, они подаются в утрированно-пародийном ключе («театр в театре»). Далее, эта саморефлексивная, аналитическая техника становится у Брехта, равно как и у Пригова, инструментом показа-кристаллизации господствующей идеологии, в той степени, в какой та говорит через конвенциональные художественные формы и дискурсы. Нужно ли напоминать, что для Брехта такой распыленной в «эстезисе» инстанцией власти являлась идеология буржуазная, тогда как для Пригова – по большей части – коммунистическая (утопическая, мессианская). Тем не менее, коль скоро в данный момент мы являемся свидетелями капиталистической культурной индустриализации и триумфа новой утопии, утопии потребления, опыт, явленный нам синтезом ДАП, представляется как нельзя более актуальным [275].
Уорхол . Кто-то сказал, Брехт хотел, чтобы все думали одинаково. Я хочу, чтобы все думали одинаково. Только Брехт хотел добиться этого через коммунизм, в известном смысле. Россия добивается этого под руководством правительства. А здесь это происходит само собой, без всякого строгого руководства; так почему бы, коль скоро это получается без труда, не обойтись и без того, чтобы быть коммунистом? Все выглядят одинаково, все действуют одинаково, и мы всё больше и больше идем по этому пути.
Я думаю, все должны быть машиной.
Я думаю, все должны любить всех.
Свенсон . В этом и состоит поп-арт?
Уорхол . Да. В любви к вещам.
Свенсон . А любить вещи – значит быть похожим на машину?
Уорхол . Да, потому что всякий раз ты делаешь одно и то же. Ты делаешь это снова и снова [276].
Самое главное и заключается в том, чтобы научиться мыслить грубо [вульгарно]. Грубое мышление – это мышление великих людей. Политика – это продолжение коммерции иными средствами.
Бертольт Брехт. «Трехгрошовый роман» [277]В своих многочисленных выступлениях, интервью, «предуведомлениях» ДАП снова и снова не устает утверждать приоритет поведенческой художественной модели перед художественным произведением или текстами как таковыми. Последнее его прижизненное интервью (16 апреля 2007 года) электронному «Русскому журналу» так и озаглавлено: «Искусство сегодня занимается не содержанием, а новыми типами художественного поведения» [278]. Приведу два характерных высказывания: «Еще раз отметим, что поэзия – это не только тексты, но специфический способвыстраивания и явления обществу значимых типов культурного, в данном случае – поэтического, поведения» [279]; «Именно на уровне поведенческой модели разрешаются основные проблемы и нечто утверждается. Утверждается, конечно, свобода. Действительно, наше время и этот тип культуры актуализировали проблему свободы. Проблему прав человека можно перефразировать как попытку свободы личности от диктата коллектива, то же самое происходит и в искусстве. Оно говорит о возможной свободе художника от довлеющих ему языков, представляющих в литературе именно коллективы, предыдущий коллективный опыт» [280]. ДАП оперирует большими историческими периодами, социально-культурными парадигмами и типами сознания. Терминология, которой он пользуется, меньше всего напоминает язык поэта (в привычном понимании) или даже филолога, скорее это наукообразный социолект того, кто изучает общественные процессы, делает прогнозы и строит понимание искусства и своего места в нем, исходя из неких объективных закономерностей. Поэтическая функци я тем самым радикально историзируется, помещается в широкий социально-культурный, политический (проблема свободы) контекст, более того – выводитс я из этого последнего.
Отметим также, что в центр современного культурного производства ДАП неизменно ставит именно визуальное искусство. Ему же он отводит главенствующую роль в собственном формировании. Так, на вопрос Сергея Шаповала «Что в культуре оказало на вас наиболее сильное влияние?» ДАП без колебаний отвечает: «Изобразительное искусство. В изобразительном искусстве я был гораздо более продвинут, чем в литературе. Просто однажды я задумался: а есть ли вариант соцартистского и концептуального менталитета в литературе? Стал отыскивать аналогии» [281].
Вот и я, отправляясь на поиски аналогий, не мог не подумать об Энди Уорхоле. Вынесенное в эпиграф изречение Брехта (вернее, брехтовского персонажа) тот мог бы перефразировать на свой лад, примерно так: «Искусство – продолжение коммерции иными средствами». Это может показаться профанацией, но разве трафаретные серии Уорхола не профанируют великих художников прошлого, Леонардо да Винчи например, а также, хотя и по-другому, Марселя Дюшана – элиминируя, упраздняя границу между оригиналом и копией, уникальным и массовым, авангардом и китчем, произведением и товаром, наконец? Как не без сарказма заметил Гарольд Розенберг: «Новация Энди Уорхола состоит не в его живописи, а в особой версии той комедии, которую разыгрывает художник в качестве публичной фигуры. Энди… привел процесс переопределения искусства к той точке, где от искусства не остается ничего, кроме фикции художника» [282].
На самом деле процесс «переопределения искусства», и тоже не без комедийных ноток, начал Дюшан еще в свой дадаистский период, когда от станковой живописи перешел к квазинаучным экспериментам («стоппажи») и «редимейдам» («готовым изделиям», говоря по-русски – «ширпотребу», каковой, будучи перенесен в выставочное пространство, обретал иную, неутилитарную функцию). И все же именно родоначальник «попизма» явил новую модель художественного поведения, которой и наследует ДАП. Эту модель можно с полным правом назвать стратегией, поскольку она предполагает продуманное выстраивание взаимоотношений не только с доминирующими в данном конкретном виде искусства стилями и направлениями, но и с их программным обеспечением или, по-другому, «надстройкой»: рекламой, рынком, массмедиа, культурными институциями, всей сферой публичности, включая потребление. Иными словами, деятельность внутри поля искусства с его имманентной логикой, иерархией имен, расстановкой сил и т. д. дополняется и ставится в зависимость от внеположных (казалось бы) этому полю силовых линий. Лингвисты сказали бы, что доминантой здесь становится прагматика (речевого) поведения, под воздействием каковой семантика и синтаксис коренным образом перестраиваются, претерпевают деформацию, отодвигаясь на второй план.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: