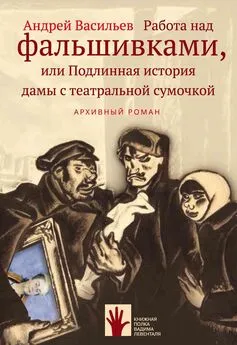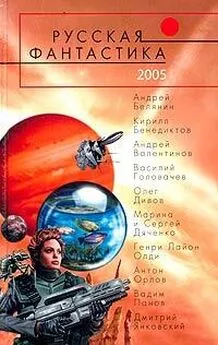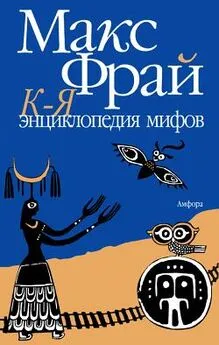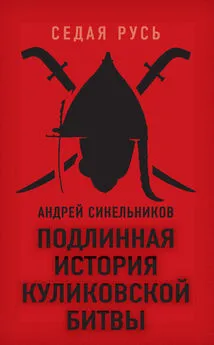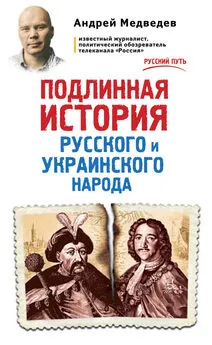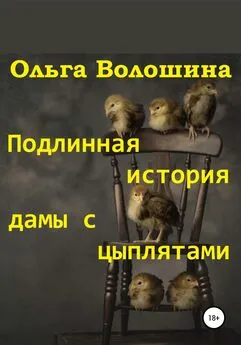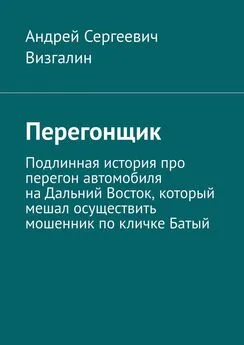Андрей Васильев - Работа над фальшивками, или Подлинная история дамы с театральной сумочкой
- Название:Работа над фальшивками, или Подлинная история дамы с театральной сумочкой
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ИД «Городец»
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-907358-00-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Васильев - Работа над фальшивками, или Подлинная история дамы с театральной сумочкой краткое содержание
Как высочайшего класса расследование эта книга подробно рассказывает о потайных механизмах функционирования арт-рынка; как роман — обращается к глубинам человеческой природы.
Работа над фальшивками, или Подлинная история дамы с театральной сумочкой - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Михаил Перхин и Хенрик Вигстрем, как и сам Карл Фаберже, от возмущения непрерывно переворачивались в своих гробах, но бороться с этим безобразием было бессмысленно.
Нынешние обитатели Квинса и Бруклина, унеся с собой за океан ностальгическую память о стройной системе ценностей позднего СССР, забыли остерегающие запреты и скооперировались с циничными высокотехнологичными китайцами. Вместе они завалили весь мир новодельными «фаберами», «сазиковыми» и «хлебниковыми», сбив цены и почти уничтожив своими умелыми, беспощадными пальцами осеннюю прелесть «эмалевого крестика в петлице» и грустную романтику последних Романовых.
Возвращаясь к исследуемому портрету — скорее всего, попутно для него сочинили и красивую «волшебную сказку». На этот счет в Ленинграде-Петербурге существовали выдающиеся изобретатели, новаторы и рационализаторы, досконально вычислявшие возможность того или иного холста играть чужие и навязанные роли. Слова Цицерона об Александрии, считавшего этот город «источником всех трюков, всех обманов, из которых берутся все сюжеты для писателей мимов», вполне применимы и к северной столице России, придуманной Петром Великим примерно по тем же основаниям, какими руководствовался его еще более великий македонский предшественник. Мнение же Достоевского о том, что «Петербург есть самый умышленный город на свете», напрямую ложится в основание моих напряженных поисков злого «умысла». Популярное в народнической и советской традиции слово «сказитель» приобрело в джунглях развитого социализма совсем иное значение.
В ход при этом шли любые ухищрения. Русификация западного полотна путем добавления какой-нибудь привлекательной детали в стиле «рашен деревяшен» вроде «тройки с бубенцами» или «гимназисток румяных» с вызывающими стойкую культуральную изжогу «конфетками-бараночками»; нанесение фальшивой подписи солидного (но не до опасной чрезмерности) отечественного мастера были просто легкими детскими забавами и шалостями.
История о благообразной, интеллигентной «петербургской» старушке, ставившей потенциального клиента «на место» тщательно выверенными фразами: «Ах, простите, я сегодня никак не могу вас принять. Сегодня в Большом зале (Филармонии) концерт Гилельса. Разве вас там не будет? Вы не любите классическую музыку? В таком случае наш разговор не имеет никакого смысла. Как можно интересоваться живописью и быть равнодушным к музыке?» — у которой на стене тщательно и целенаправленно артистически захламленной комнаты в гигантской коммуналке невыцветшее прямоугольное пятно, хранившее память о фотографии покойного мужа, являлось творческим стимулом для написания нескольких десятков новодельных беспредметных композиций, уходивших прямиком к заезжим иностранцам, более чем близка к реальности. Выгоревшие «довоенные» обои по периметру, точное попадание в размер и девственный цвет стены под картиной служили стопроцентным доказательством вожделенной подлинности. Как и бледные тени безликих соседей, припадавших к стенам общего коридора в поисках портвейна и вермута и пугавших робких визитеров.
— Посмотрите, голубчик! Эта вещь висит здесь уже пятьдесят лет. Вы первый, кто снимает ее с гвоздя, — вовремя пущенная слеза, кружевной платочек из рукава промокает смеющийся глаз.
— Я вам очень доверяю. Сама не знаю почему. Я такая неопытная в этих вопросах. Если бы не операция (помощь сестре, отъезд за границу, плата за обучение племянника и т. д.), я никогда бы не рассталась с этим Малевичем (Филоновым, Родченко, Татлиным).
Старушка, кстати, работала не столько за деньги, сколько ради социальной востребованности, встреч с «интересными людьми» и возможности десятки раз рассказывать благодарным простакам все новые и новые выдуманные истории из своей жизни. Ее словоохотливость не знала формальных границ, оставаясь при этом в пределах реальности. В какой-то степени это был бесконечный хэппенинг и перфоманс с участием первых имен русского искусства, в котором основную роль играла давно уже покойная NN. Ведь подделки на старой стене, приносившей доход самим фактом своего существования, происходили по ее словам непосредственно от Малевича, Филонова, Кандинского и почему-то художника Беляшина. Довольно известный и очень неплохой петербургско-ленинградский живописец специализировался в основном на автопортретах в мрачноватой по колориту шаржированной псевдорембрандтовской манере. На всех своих изображениях он показывал зрителю язык, таращил глаза и вообще всячески издевался над «клиентом». Но подделок его картин я никогда не встречал. Его соседство с Малевичем было абсолютно невозможно по многим причинам, но старушка была непоколебима. У нее, очевидно, были связаны с этим мастером и еще с почти забытым Николаем Черновым-Краузе какие-то трогательные сентиментальные воспоминания юности. Таким образом, и Беляшин, и Чернов, по всей видимости, триумфально «въехали» в изобилующую лакунами историю русского авангарда, расцвечивая своим богемным видом извращенное восприятие некоторых американских стажеров. А может быть, и сошли на ближайшей станции после пересечения границы, устыдившись своего невольного номинального участия в бесстыдных аферах.
Помимо перечисленных имен через нее активно реализовывалась «графика Лебедева», выполненная по трафаретам и состаренная в какой-то плохо отрегулированной муфельной печке. Этого Лебедева в товарных количествах до сих пор продают на мелких европейских и американских аукционах. Опознать его очень просто по несколько «пережаренному» внешнему виду и чуть обугленным краям.
«Воспоминания» о художниках конвертировались в конфеты, рыбно-колбасные деликатесы, очень небольшие, буквально символические, деньги и восторженное поклонение. Такое случалось и случается сплошь и рядом до сих пор. Подозреваю, что некоторые из этих историй, будучи записанными въедливыми славистами, были напечатаны где-нибудь на Западе, а потом прочно вошли в соответствующий канон, где и «отлились в гранит» для будущих поколений.
Общеизвестно, что «Петербургские зимы» Георгия Иванова, «Портреты» Юрия Анненкова и «На берегах Невы» Ирины Одоевцевой весьма далеки от исторической правды. И что с того? Разве это меняет нашу искреннюю симпатию к этим замечательным авторам на презрительный скепсис? Ведь никакой «истории» как таковой не существует в природе, пока какой-нибудь чудак не запишет свою версию прошедших событий, чтобы оправдаться перед потомками, отомстить врагам или закрепить за собой кусок ничейной территории. Ясно, что его вариант прочтения прошлого как минимум субъективен, а как максимум в чем-то лжив. Но он не идет ни в какое сравнение с так называемым «научным» изложением, которое лживо во всем, от начала до конца, поскольку укладывает «живую жизнь» в прокрустово ложе выдуманной теории.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: