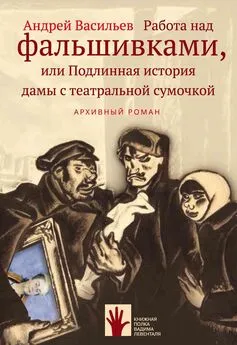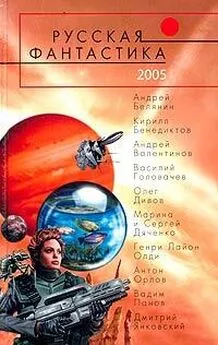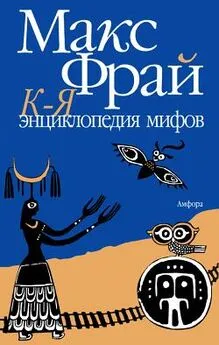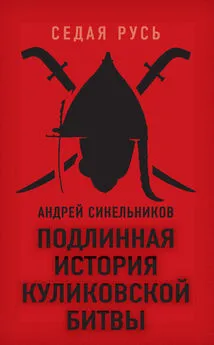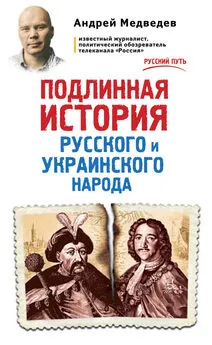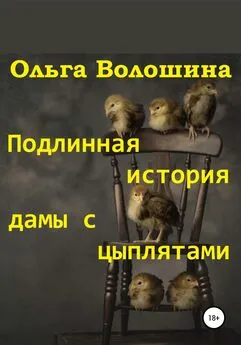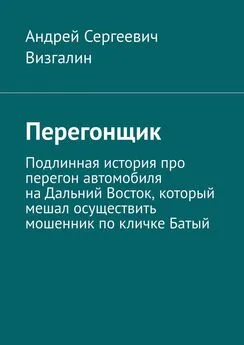Андрей Васильев - Работа над фальшивками, или Подлинная история дамы с театральной сумочкой
- Название:Работа над фальшивками, или Подлинная история дамы с театральной сумочкой
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ИД «Городец»
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-907358-00-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Васильев - Работа над фальшивками, или Подлинная история дамы с театральной сумочкой краткое содержание
Как высочайшего класса расследование эта книга подробно рассказывает о потайных механизмах функционирования арт-рынка; как роман — обращается к глубинам человеческой природы.
Работа над фальшивками, или Подлинная история дамы с театральной сумочкой - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В общем, до выяснения столь деликатных тонкостей, как стоимость или, как говорили в то время, «цена вопроса», дело не дошло. Или мне это осталось неизвестным.
По дороге в город мы живо обсуждали все увиденное и услышанное, хотя с моей стороны употребление глагола «обсуждать» звучит несколько самонадеянно. Но у Соломона был такой «псевдосократический» способ выяснения истины с помощью «диалога с варваром». Чем менее образованным и искушенным оказывался собеседник, тем более он ему доверял в вопросах непосредственной оценки художественного произведения, да и некоторых деликатных жизненных ситуаций тоже. Это, разумеется, никак не исключало его весьма продуктивных контактов со специалистами и профессиональными искусствоведами. Скорее делало их диапазон максимально широким. Так он регулярно и подробно спрашивал своего внука, что тот думает о той или иной картине. Нет нужды говорить, что эти «дискуссии» с девятилетним мальчиком — в духе «Рассказов Вельзевула своему внуку» Гурджиева — помимо всего прочего, принесли ощутимую педагогическую пользу. Если мы что-то и помним хорошо, так это лишенные какого-либо морального содержания события раннего детства. И именно они, окрашенные любовью, доверием и страхом потери, а не вбиваемая палкой директивная педагогика последующих десятилетий, определяют нашу жизнь вплоть до самой смерти.
Кроме того, не лишним будет добавить, что я, разумеется, в мельчайших подробностях рассказал ему обо всех обстоятельствах моего первого знакомства с картиной и назвал фамилию предполагаемого автора — Джагупова.
— Знаете, что почти все дети являются гениальными художниками? Почему это? Поглядите на их потрясающие рисунки. На чувство цвета. На перспективу, соответствующую подлинной метафизической реальности, а не мнимостям реального мира. Ведь фигура отца действительно значительно выше самого высокого дерева. А что с ними происходит, когда они вырастают? Полное разочарование. Как будто им серую пыль или песок бросают в глаза. Это не только мое наблюдение. Многие авторы проводят контрастную границу между поколенческими особенностями восприятия. Крученых уделял творчеству детей большое внимание. Вспомните «Собственные рассказы и рисунки детей». Или Малевич, издавший книгу «Поросята» совместно с некой Зиной В. одиннадцати лет. Или интерес к искусству негров [36]. Или внимание к лубку. К народному искусству. Или творчеству душевнобольных [37].
Они становятся, вырастая, заложниками расхожих оценок и чужих вкусов. Поэтому есть смысл выяснять не только мнение искусствоведа, зажатого в тиски навязанных суждений и в инерцию дисциплинарных штампов, но и искреннего профана, если только он не врет, не стремится произвести нужное впечатление, а говорит от самого сердца. Что бог на душу положит. Помните платоновскую притчу о пещере? Не вникая в подробности, узники пещеры не могут видеть реальный мир не только из-за особенностей подземелья, но и потому, что они находятся в оковах, мешающих им даже повернуть голову.
Отчасти это метафора не одних лишь формальных особенностей человеческого познания, но и социальных условностей. Простому человеку просто или проще говорить правду. А ребенку тем более. Его еще не успели заковать в кандалы. Не дорос, можно сказать [38].
— Ну, ладно, Соломон Абрамович, вы немного преувеличиваете. Если следовать вашей логике, то дети должны отличать и хорошую музыку. Прямо-таки заслушиваться ей, благо там отсутствуют словесные построения, которые могут быть им непонятны. А в реальности, стоит им дотянуться до вожделенной кнопки, они врубают на всю мощь что-то вроде «Ra-ra-rasputin / Russia’s greatest love machine» и прочую тому подобную гадость. Иной раз хочется их за это придушить.
— С музыкой вообще сложно. С одной стороны, это элемент культа. «Рождение трагедии из духа музыки». С другой — постоянный раздражающий шумовой фон, мешающий сосредоточиться. Более агрессивный, чем плохая живопись и литература. Книги можно не читать, а на картины не смотреть. От музыки никуда не спрячешься. Аполлоническое и дионисийское. Музыка имеет отношение ко второму. Может быть, есть какие-то биологические ритмы и звуковые ряды? Я просто не знаю. Хотя ничто не может так воодушевить человека, как музыка. Когда я слышу первые звуки «Марша Радецкого», то несколько секунд ощущаю себя цирковой лошадью. Действительно, есть это противоречие. Оно для меня неразрешимо. Но давайте поговорим о портрете. Что вы о нем думаете? Есть у вас какие-то соображения об авторстве? Или немного шире — о круге авторов, в котором могла появиться эта картинка? А о символике? Мне кажется, тут есть о чем порассуждать. Не каждый день встречается такая выразительная и таинственная вещь.
И вот мы, не будучи связанными никакими приличиями, условностями и границами, около полутора часов болтаем об увиденном чарующем портрете, высказывая различные догадки и гипотезы. Непреложной истиной является тот факт, что вещь это старая, как говорится, «во времени», и происходит она из ближайшего окружения Малевича. Действительно, связь ее с поздними портретами этого мастера ощутительна и неоспорима. Особенно в некоторых деталях, но никак не в общем впечатлении. Как-то все в ней более «гуманизирование», все более легковесно и даже воздушно по сравнению с самим основоположником, чьи последние работы такого рода совершенно статуарны, если не сказать «железобетонны». Лишены какой-либо динамики и даже потенции к движению. «Гробы повапленные», как говорят о таких «иератических» предметах, неуловимо напоминающих причудливо раскрашенные египетские саркофаги или старые торговые манекены, в которых отчетливо ощущается «надгробность» и близкий финал пути.
А вот дальше начинаются сплошные субъективные предположения и фантазии, сводящиеся в сухом остатке к тому, что доктринер и визионер Малевич (пророк и тайнозритель для тех, кто любит побольше сахара) на излете своей не столь уж долгой жизни, окрашенном специфическими волнениями, связанными с раком предстательной железы, никак не мог написать такую поразительную вещь. С таким удивительным колоритом, с такой внутренней амбивалентной эротикой. Такую имплицитно озорную и кокетливую и такую одновременно зажатую и тревожную в неопределенности выбора, стоящего перед моделью, безусловно связанной с автором портрета глубоко личными чувствами и переживаниями.
— А как же не учитывать механизмы сублимации и обостренное ощущение либидинозной катастрофы? Может быть, как раз наоборот? Только в этот период и только этот мастер мог написать такую глубокую вещь? Вспомните «Смерть Ивана Ильича». Для того, чтобы написать шедевр, не нужно высоких размышлений. Следует просто вовремя упасть с лестницы и толково умереть. Почему мы так охотно политизируем или психологизируем картину, но никогда ее не «физиологизируем»? Она же прежде всего телесна, материальна, и лишь потом люди усваивают ей свои «народные чаяния», как говорила Ахматова. Чем ближе человек к искусству или литературе, тем более он является монофизитом, фокусируясь исключительно на «духовном». О духовности этого «духовного» вежливо умолчим. А на самом деле, возможно, все обстоит совсем не так. Картина, в отличие от стихов и особенно музыки, всегда материальна. Это четыре дощечки (иногда больше), один квадратный метр тряпки, немного масла, красок и прочих расходных материалов. А все остальное — это человеческие воля, усилия и наши представления. Согласитесь, из уважения к азам методологии надо анализировать произведение искусства, распределяя физику и пневму в соотношениях хотя бы пятьдесят на пятьдесят.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: