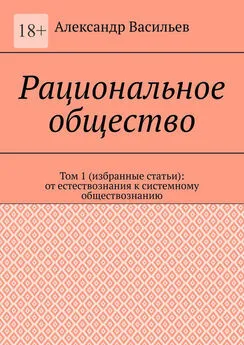Александр Васильев - Мемориал
- Название:Мемориал
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:1986
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Васильев - Мемориал краткое содержание
Рассчитана на массового читателя.
Мемориал - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Верман рассказывает об истории этого цеха. У него хорошая память. Но, кажется, только на то, что работает в его пользу или в пользу его хозяев. Вот здесь, возле двери, которая раньше вела на склад готовой продукции, осенью сорок четвертого года эсэсовский офицер в черной форме едва не расстрелял бывшего хозяина, достопочтенного Бернгарда Фоссена, обвинив его в саботаже. Гитлеровцы требовали от фабриканта расширения военного цеха, но Фоссен всячески тянул с этим делом, поскольку, по словам мастера, ненавидел войну и бесноватого фюрера. «Но мы узнали о готовящейся расправе над хозяином, сбежались в цех, и эсэсовец струсил, — с гордостью говорит мастер. — Ему пришлось ретироваться, а хозяин отделался денежным штрафом».
Рассказывая, мастер поглядывает на меня, как бы призывает в свидетели. Да, я тоже припоминаю что-то в этом роде. Правда, насчет того, что эсэсовец испугался кучки инвалидов и женщин, прибежавших спасать хозяина, я сильно сомневаюсь. Их всех тогда объявили бы бунтовщиками и уничтожили. И тянул с расширением военного производства господин Фоссен не только потому, что ненавидел Гитлера, — нет, эта ненависть, даже если она и была где-то, в глубине души, не мешала ни Фоссену, ни другим немецким предпринимателям прекрасно обделывать дела, наживаясь на заказах от военных ведомств. И не она, не эта ничем тогда не обнаружившая себя ненависть, толкала фабриканта на «саботаж». Нет, то был трезвый расчет капиталиста: зачем вкладывать деньги в заведомо проигрышное дело? Ведь тогда каждый здравомыслящий немец понимал, что война идет к концу. Германии грозит иностранная оккупация, военное производство, во всяком случае, в ближайшие годы будет в застое, оборудование пойдет с молотка… И Фоссена тревожила прежде всего мысль об убытках, а не забота о мире.
«Посмотрите сюда! — продолжает объяснять Верман, — Здесь, где сейчас сверкает стеклом эта галерея и стоят кадки с экзотическими растениями, был когда-то так называемый «черный склад», там хранился всякий шурум-бурум — запасной инвентарь, грузовые тележки, тачки, ржавое железо… Здесь бегали вот такие крысы! — Мастер Верман округляет глаза. — Мы даже боялись сюда заходить!»
Старик понимающе переглядывается со мной. Теперь он уже окончательно успокоился и даже видит во мне сотоварища, чуть ли не друга.
Что ж, ведь мы с ним оба старые «фоссеновцы», последние из могикан. Ведь недаром мне, как и ему, был вручен недавно значок почетного члена профсоюза вестфальских ткачей, и Верман знает об этом.
Об одном он не знает и, может быть, не узнает никогда, до конца своих дней, — о том, что этот шрам у меня на губе и два вставных зуба — след от встречи с ним. И произошла она т о г д а вот здесь, на этом месте.
…Зеленоглазая Валя из Мариуполя, бывшая невольной виновницей моего сочинительства, вскоре дала понять, что ей понравился вовсе не я, а Виктор Кручинин. Я с горечью отошел в сторону. Куда уж было мне, неуклюжему пензяку, тягаться с московским артистом. Даже в грязной робе и грубых деревяшках он сохранял, как мне казалось, некую импозантность. На его длинном лице, украшенном носом с горбинкой, всегда играла загадочная улыбка, а в углу рта была зажата сделанная из верескового корня трубка.
Сейчас, много лет спустя, я часто думаю: с чем можно было нас сравнить — советских людей, попавших в самую страшную неволю из всех известных миру неволь? Недавно в горах я увидел цветок, выросший на голом камне, и захотел посмотреть корень. С трудом мне удалось отвалить две или три каменные глыбы, под которыми тянулся тоненький, бледный стебелек. Следовать за ним дальше, в глубь горы, у меня не хватило сил. Потом знакомый ботаник мне сказал, что есть растения, которые пробиваются к солнцу чуть ли не через километровую каменную толщу, находя для себя невидимую глазом трещину или микроскопическую пору…
Кто породил в нас ту же удивительную силу жизни — только ли одна природа? Нет, человек не растение, его должна согревать и поддерживать изнутри еще и мысль, идея, все, что дали нам Родина, школа, книги, которые мы когда-то читали. Всего не перечислишь, да и не угадаешь. Долго еще будут «советологи» всех времен разгрызать этот русский феномен — величайшую из загадок века.
…Она тоже была загадкой — маленькая Люська, девушка лет восемнадцати, похожая на ребенка, с кукольным личиком. Ее познакомила со мной Валя. Помню, когда вечером, в сумерках, она подвела ее к проволоке, которой был огорожен вымощенный каменными плитами дворик нашей казармы, и сказала: «Познакомься, это Людмила», я, мрачно усмехнувшись, представился Русланом. «Как интересно!» — закатила голубые глаза и захлопала в ладоши Людмила. Я подумал, что она, вероятно, еще не читала пушкинской поэмы. Но девушка вдруг шепотом сказала: «А здесь у нас есть Черномор! Не знаете?.. Его зовут Антон!»
Мы с ней сразу подружились. Подвижная, вечно захваченная какой-нибудь идеей, она удивляла меня своей веселой энергией. Работала она на тяжелом участке — перевозила вагонетки со шпулями из прядильного в ткацкий цех. Я знал, что это такое. Как-то заболела одна из грузчиц, и мастер послал меня на замену. Досталось же мне без привычки! Проклятые шпули выскальзывали из рук, я не успевал нагибаться за ними. Несколько катушек упали мне на ноги, к концу смены я едва ходил… Маленькая Люська работала проворно и сноровисто, но тоже уставала и, придя в барак, валилась без сил. Часто ее мучили рези в животе — в этом она признавалась сама, без стеснения. «Я уже никогда не смогу родить ребеночка, — печально сказала она однажды. — Ведь нам, женщинам, нельзя таскать такие тяжести». «Женщина!» Кажется, я тогда впервые разглядел ее по-настоящему. В красноватом закатном свете, среди двора, сдавленного мрачными фабричными корпусами, стояла маленькая Ева, одетая в грязный комбинезон с меткой «Ост». Глаза ее были прозрачными, как лесной ручей, и я вдруг испугался этой бездонной голубизны.
«Ты что на меня так смотришь?» — поймав мой взгляд, прошептала она. Показав на стоящие рядом парочки, она глазами велела отойти мне подальше. «Хочешь со мною встретиться… не через проволоку?» — «Хочу. Но как?» — выпалил я. Люся приложила палец к губам. «Придумай что-нибудь», — сказала она, опустив ресницы. Помучив меня еще немного и видя, что время нашей прогулки кончается, Люся шепнула на прощание: «В час ночи приходи в «кишку», понял?»
…«Кишкой» мы называли длинный тамбур, пристроенный к ткацкому цеху, где хранился запасной инвентарь. Перед началом смены девчата, работавшие на транспортировке, приходили сюда за тележками. Вдоль стены выстроились железные шкафы с пустыми шпулями. В уголке, за занавеской, стоял, как святыня, обшитый клеенкой топчан, на котором иногда, в перерыв, отдыхал мастер.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
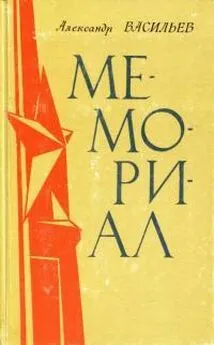

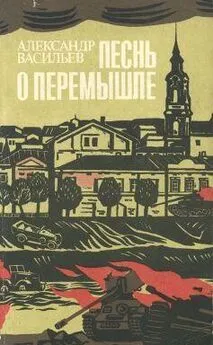
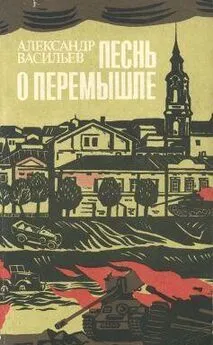
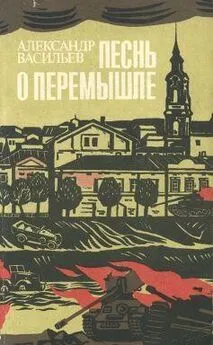
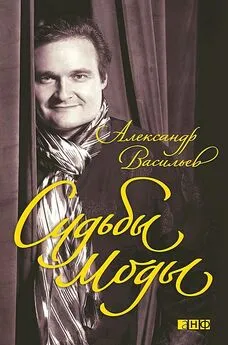
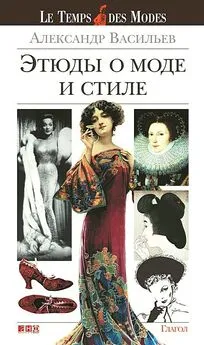
![Александр Васильев - Сплин. Весь этот бред [litres]](/books/1070334/aleksandr-vasilev-splin-ves-etot-bred-litres.webp)