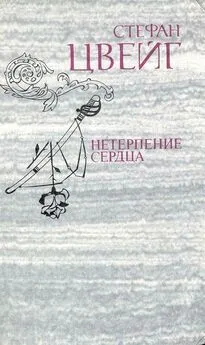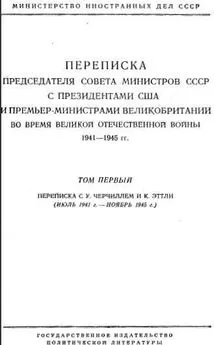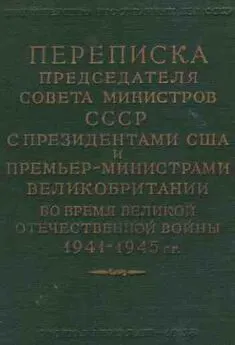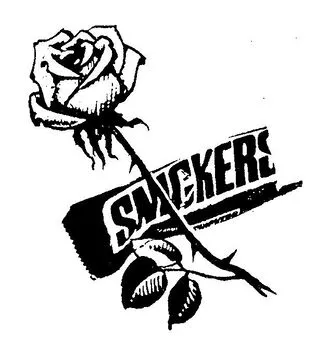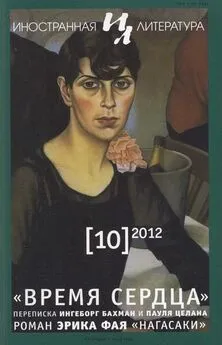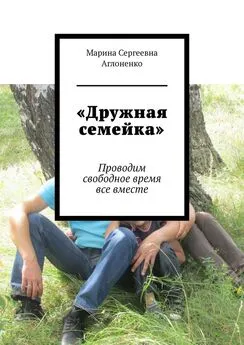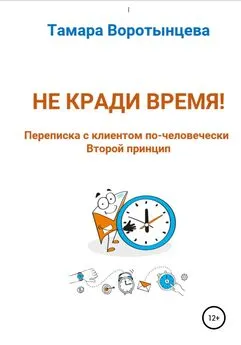Марина Коренева - Переписка Стефана Цвейга с издательством «Время» 1925-1934
- Название:Переписка Стефана Цвейга с издательством «Время» 1925-1934
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2018
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Марина Коренева - Переписка Стефана Цвейга с издательством «Время» 1925-1934 краткое содержание
Переписка Стефана Цвейга с издательством «Время» 1925-1934 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Для Цвейга известие о том, что в России выпущен сборник его новелл, стало событием [11] См. подробнее статью К.М. Азадовского в настоящем сборнике.
. В свои сорок четыре года он отнюдь не избалован славой: его имя, конечно, известно, оно то и дело мелькает на страницах газет, где он регулярно публикует свои новеллы или статьи по случаю. Его литературная деятельность разнообразна — поэт, переводчик, эссеист, драматург, новеллист, но слишком часто он оказывается в тени тех, кому отдает свои литературные силы. Он пишет о Верхарне и издает его стихи, он пишет о Верлене и снова издает стихи, он пишет очерки о великих (о Бальзаке, Диккенсе и Достоевском, о Гельдерлине, Клейсте и Ницше) и тех, кого он сам считает великими (о Ромене Роллане и Марселине Деборд-Вальмор), умножая за их счет свой литературный капитал. Для литературного пространства за пределами Австрии и Германии, однако, эти работы с издательской точки зрения вторичны и потому их начнут активно переводить на другие языки несколько позже, когда за Цвейгом уже закрепится репутация новеллиста-психолога, а сам он откроет для себя жанр беллетризованной биографии, позволяющий, впрочем, все так же прятаться за «большими» именами и одновременно использовать инструментарий психологического исследования, с успехом опробованный им в малой прозе. Сам Цвейг придает необычайное значение переводам своих произведений на другие языки. Для него это прежде всего знак подлинного признания, знак выхода на европейскую, на мировую литературную арену. Он не только внимательно отслеживает появление публикаций своих текстов в переводах, но и сам прилагает усилия к их появлению, завязывая и поддерживая отношения с переводчиками в других странах. Установление контакта с русским/советским издательством и предложение издать следующий сборник, который тогда еще только находился в работе, — последовательный шаг на пути создания своей «европейской» биографии.
Момент оказался удачным: первый русский тираж уже почти забытого в Германии раннего сборника Цвейга, название которого издатели умело оживили, вынеся вперед заголовок одной из новелл («Жгучая тайна»), разошелся и на 1926 г. был запланирован выпуск второго тиража. Читатель требовал любовной интриги [12] Отсутствие любовной интриги послужило, например, одним из аргументов для отклонения пьесы Цвейга «Иеремия»: «В пьесе нет никакой любовной интриги, столь необходимой для современного читателя», — писал Н.Н. Шульговской в рецензии от 18.03.1926 (См. Приложение № 2).
и новеллы Цвейга этому запросу вполне отвечали. Заключение прямого договора с автором давало преимущество, поскольку в этом случае можно было получать тексты до их публикации в Германии и тем самым хоть как-то защитить себя от конкурентов, которых у издательства «Время» было немало — главные из них «Мысль», «Прибой» и Государственное издательство, не говоря уже о прибалтийских и немецких издательствах, печатавших переводную литературу на русском языке. Ситуация, когда одновременно в трех издательствах выходил один и тот же перевод, была рядовой [13] Примером может служить история переводов романа Бернгарда Келлермана (1879-1951) «Туннель», появившегося впервые на русском языке в 1913 г. и переиздававшегося в 1920-1930-е гг. в разных переводах несколько десятков раз. Только в 1926 г. перевод Э.К. Пименовой (1855-1935), выполненный ею с английского языка в 1915 г. и многократно воспроизводившийся с тех пор, был выпущен одновременно издательствами «Мысль», «Прибой» и Госиздатом.
, и рассчитывать на уступчивость конкурентов или «верность» переводчиков, которые кочевали из издательства в издательство, не приходилось. Существовала и опасность того, что кто-то из конкурентов сам, напрямую свяжется с автором, и получит авторизацию — выпуск авторизованных изданий, практиковавшийся в дореволюционной России, продолжался в небольшом объеме и после революции до самого конца 1930-х гг., причем речь шла отнюдь не только о «своих», карманных писателях, выступавших в роли идеологических союзников, и авторизацию получали не только частные издательства, но и государственные. Кроме того, именно в 1925-1926 гг. было предпринято несколько попыток со стороны европейских государств побудить советское правительство присоединиться к Бернской конвенции, и в Москве, принципиально отвергнувшей эти предложения, обсуждались возможности заключения сепаратных литературных конвенций с отдельными странами, в частности с Италией и Германией [14] Жирнов Е. «Наше законодательство отказалось от защиты притязаний автора» // Коммерсантъ Власть. № 43 (546), 03.11.2003.
. Слухи об этом курсировали в издательской среде и получение авторизации в этом контексте могло быть очень своевременным, хотя она и не спасала от главной опасности — от возможной монополизации как права на перевод, так и самого перевода со стороны государства, поскольку это право было закреплено в советском законе об авторском праве во всех редакциях 1920-х гг. (1925, 1926, 1928) — поучительный пример с национализацией всех переводов на русский язык произведений Эптона Синклера (1878-1968) был всем хорошо известен [15] Народный комиссариат просвещения, основываясь на декрете от 26 ноября 1918 г., опубликовал 14 мая 1925 г. постановление «О признании достоянием РСФСР всех переводов на русский язык произведений Эптона Синклера». См.: Собрание узаконений РСФСР 1925 г., № 45. С. 336.
. С учетом этого сосредотачиваться на каком-либо одном авторе, излишне привлекая к нему внимание, для всякого коммерческого издательства, несмотря на возможную финансовую выгоду, было рискованно.
Заключая договор с Цвейгом, издательство отдавало себе отчет в некоторой эфемерности этого средства защиты от конкурентов, тем более, что Цвейг, пообещав предоставлять новые тексты в рукописи или в корректуре, не переставал публиковать свои тексты в газетах и журналах, не считая их, вероятно, полноценной публикацией, и тем самым открывал путь сторонним переводчикам, которые этим пользовались, как это обнаружилось уже на самой ранней стадии взаимодействия Цвейга с издательством «Время» [16] См. письмо № 6 от 04.05.1926.
. Учитывая невозможность целиком и полностью обезопасить себя от притязаний других переводчиков и издательств, «Время» назначило Цвейгу весьма скромный гонорар в 30 рублей за авторский лист [17] Для сравнения: в 1926 г. ГИЗ предложил М. Пришвину за роман «Кащеева цепь» по 60 рублей за авторский лист, за очерки и рассказы в газетах и журналах объемом от одного до полутора авторских листов М. Пришвин получал в эти годы 80 — 100 рублей (См.: Пришвин М. Дневники 1926-1927 гг. М.: Русская книга, 2003).
, который в конце 1928 - начале 1929 г. был повышен до 50 руб. [18] Для сравнения: в 1929 г. В. Маяковский запрашивал гонорар в 200 р. за авторский лист. (См. заявление, составленное В. Маяковским и О. Бриком от имени группы РЕФ и направленное ими заведующему Госиздатом А. Б. Халатову 14 мая 1929 г.: Маяковский В. Собрание сочинений в 13 тт. М.: ГИХЛ. 1961. Т. 13. Письма и другие материалы).
Издательство брало на себя обязательства выплачивать установленный гонорар в два приема по выходе книги, участие в прибылях от продажи тиража, принятое в Германии, не предполагалось, при переиздании автор получал 50% от исходной ставки. Оплата производилась в долларах, средний курс которого в РСФСР с 1925 по 1934 г. составлял 1,94 рубл. за 1 доллар. Если бы Цвейг получал гонорар в рублях, то сумма его гонорара уменьшилась бы еще в несколько раз, поскольку за пределами РСФСР курс рубля был другой и в 1928 г., например, доходил до 5-8 рублей за доллар. В Германии средний авторский гонорар за авторский лист в 1926 г. составлял 80-120 рейхсмарок при тираже 1000 экземпляров, помимо этой минимальной гарантийной суммы автору причиталось 8 - 10 % от покупной цены с продажи каждого экземпляра [19] Geschichte des deutschen Buchhandels im 19. und 20. Jahrhundert Hg.: Historische Kommission d. Вörsenvereins von Georg Jäger (u.a.). Bd 2: Weimarer Republik 1918 - 1933. Teil 1. Hg.: Ernst Fischer / Stephan Füsel. München: Saur Verlag, 2007. S. 110.
. Средний курс доллара по отношению к рейхсмарке в 1924 - 1933 гг. составлял 1:4.2 [20] Bidwell R. L. Currency Conversion Tables: A Hundred Years of Change. London: Rex Collings, 1970. P. 22 - 24.
, т.е. гонорар Цвейга, определенный ему советским издательством, составлял в 15,46 долларов или 64,9 рейхсмарки за лист. До 1929 г. издательство по специальному разрешению валютной комиссии исправно переводило гонорар в Германию через ленинградский филиал немецкого государственного банка сначала на счет в том же банке в самой Германии, а во второй половине 1929 г. — на счет в венском отделении «Райфайзенбанка». После 1929 г. выплаты в долларах и переводы прекратились, гонорары Цвейга в рублях оставались в России в ожидании появления доверенных лиц, уполномоченных Цвейгом получить за него причитающиеся деньги или воспользоваться ими с его согласия. Последним, кто воспользовался этой бескорыстной поддержкой, стал Г.П. Смолка (Hans Peter Smolka, 1912-1980) [21] См. письмо № 108 от 26. 07. 1934, прим. 2.
, писатель и журналист, давний знакомый Цвейга, (как выяснилось в последствии — агент НКВД), посетивший СССР в 1934 г.
Интервал:
Закладка: