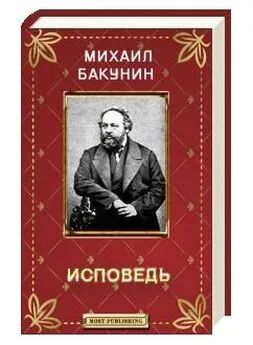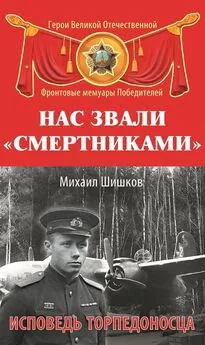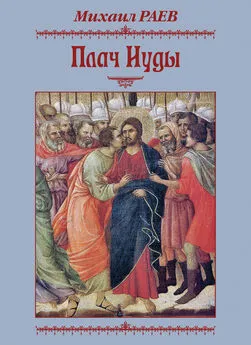Михаил Пташук - И плач, и слёзы... [Исповедь кинорежиссёра]
- Название:И плач, и слёзы... [Исповедь кинорежиссёра]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2004
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Пташук - И плач, и слёзы... [Исповедь кинорежиссёра] краткое содержание
"И плач, и слёзы..." - автобиографическая повесть художника.
И плач, и слёзы... [Исповедь кинорежиссёра] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Я не сразу осознал эту смерть. Пройдет почти год, и только тогда я пойму, что остался один, порвана последняя ниточка, связующая с родом.
Мы все рассчитываемся не только за свои грехи, но и за грехи своего рода. И каждый наш грех аукнется в будущих поколениях.
Все, что я снял, имеет отношение к истории белорусской литературы XX века. И Владимир Короткевич, и Иван Шамякин, и Василь Быков — это уже история. В каждом фильме, снятом по произведениям этих писателей, есть частица меня самого, моей матери, соседей — людей, среди которых я вырос. Если внимательно посмотреть мои фильмы, можно убедиться, что в каждом из них одна и та же изба по планировке. Читая повесть "Знак беды", я видел свой дом, в котором вырос и из которого так рано ушел "в люди". Видел, как ходят быковские герои по моему дому. Я знал каждое движение Степаниды из "Знака беды", каждое движение Ивана Батрака из шамякинского романа "Возьму твою боль". Не надо было ничего придумывать. Все герои двигались по моему федюковскому дому. Мне было легко с ними, я знал их каждый шаг, поэтому мизансцены рождались сами, легко принимались актерами, им было удобно в них. И сегодня, когда работаю над романом Богомолова "Момент истины", или "В августе сорок четвертого...", все деревенские сцены снова оживают в моем федюков- ском доме. Я знаю, что стоит в кухне, что висит на стене в большой комнате, чем накрыт стол, как протекает жизнь человека днем, вечером, каково состояние дома в разное время суток. Это все моя эмоциональная память. И чем дольше живешь, тем она сильнее срабатывает. Если раньше бежал от самого себя, от своего прошлого, то теперь проходишь обратный путь. На этом пути происходит обретение самого себя, потому что там нет ничего выдуманного, только правда, принадлежащая в конце концов не только тебе одному, а — с приходом фильма на экран — всему народу. Никогда не забуду, как во время премьеры "Нашего бронепоезда" в Ленинграде я вошел в зал, когда заканчивались последние кадры фильма: Гостюхин шел по Красной площади, останавливался, поворачивался к людям и с упреком смотрел на них. Шли титры, звучал Рахманинов, а зал молчал. Включили свет, я поднялся на сцену, смотрю в зал, а там — гробовое молчание. Я молчу, и огромный зал Дворца Ленсовета молчит. Не знаю, что и делать: стоять или уходить? И вдруг зал поднялся, и началась овация. Я подошел к микрофону, чтобы поблагодарить людей, но никто не хотел меня слушать — это они благодарили меня аплодисментами. Такое же чувство мы пережили с Гостюхиным во время показа этого фильма в Доме литератора...
Всякий раз, поднимаясь на сцену, то ли у себя дома, то ли за границей, я видел свой Дом, чувствовал его запах, видел каждую щербину в стене, прореху в крыше. И сад... Никогда не освобожусь от этого ощущения. И, возможно, там, за последней чертой, увижу этот цветущий сад. Сколько раз в памяти я пересчитывал его деревья! Вот здесь, сразу за хатой, росла огромная дичка, за ней — антоновка, потом — ранний ранет. В среднем ряду росли только яблони, справа от них — груши. Ни у кого в деревне не было таких высоких груш. Мы мучились с ними, потому что невозможно было залезть на дерево, ни у кого не было такой высокой лестницы. Груши падали, разбивались и годились разве только для кормления свиней. Я мучился, собирая их в мешки. Если не собрал сегодня, то наутро по саду нельзя пройти — вся земля желтая от груш. А каков сад в тумане! Нет на земле художника, написавшего такую картину: белый туман и сквозь него, как призраки, стволы деревьев, а внизу, на зеленой траве, желтые плоды. Они блестят от росы, и эти капельки видны на каждой груше. Многие оставили свои следы в нашем саду. До 1939 года — поляки, потом пришли первые Советы, в 1941-м — немцы, в 1944-м — вторые Советы, но больше всех топтали сады свои, подхалимы и лизоблюды, пытаясь выслужиться перед Москвой, особенно в 1949-м, когда началась коллективизация. Мне было шесть лет, и я хорошо помню, как это было.
Воспоминание первое
Мы сажали картошку. Mама шла за плугом, а мы с бабтей бросали картошку в землю. Я шел первым.
Бабтя. Не части. Расти не будет.
Мать остановила коня, повернулась ко мне.
Мать. Отдохни, сынок! Еще наработаешься в своей жизни!
Бабтя. Если с детства не приноровишься к работе, потом охоты не будет!
Она пошла к мешку, стала насыпать в коши картошку — мне и себе.
Не дай Бог, еще в колхоз загонят!
Я. Куда мы денемся?!
Бабтя. Поговори у меня...
Она замахнулась, но не ударила. Она часто била меня. Привязывала к лаве, брала вожжи и била. Мать обливалась слезами, а она била.
Пусть коммунисты в него прут, а нам там делать нечего. Чего стала?
Мать промолчала, зная бабтин норов. Тронула коня и пошла за плугом. За гумном послышались голоса. Во дворе появился Жук, председатель сельсовета по кличке Чума, в сопровождении Васьки Бычка, односельчанина, уполномоченного НКВД по коллективизации. Бабтя, увидев их, бросилась к гумну. Они по-хозяйски распахнули сарай, осмотрели имущество, потом пошли к гумну, где их встретила бабтя.
Бабтя. Чего хотели, паночки?
Жук. Паночки, мать, были при панской Польше! А мы представители Советской власти!
Он вышел из гумна, осмотрел мешки с картошкой, потом направился к маме.
Вот что, Мария! Завтра надо все сдать в колхоз: лошадь, зерно, картошку! И чтоб без всяких разговоров! Вы уже не частники, как при панах, а колхозники!
Мать. Какие мы колхозники, паночек? Мы этого слова не знаем! Слышать николи не слышали!
Васька. Что-о-о? Что ты сказала представителю власти?
Он старался говорить по-русски — этого хотело начальство, приучая народ к новой, советской жизни.
Мать. Какие мы колхозники, Васька? Мы еще несознательные!
Васька. Советская власть на то и Советская власть, чтоб из несознательных сделать сознательных!
Жук. Кому сказать? Великая Россия двадцать лет назад сдалась, а тут второй год бьемся и не можем организовать колхоз! Мы что — ради себя стараемся? По ночам не спим, жен и детей своих не видим, чтобы вас из этого дерьма вытащить!
Бабтя. А вы не старайтесь! Лучше с женами по ночам спите да за детьми смотрите!
Васька вновь сорвался, вскинул винтовку и бросился к бабте.
Не пугай — пужаные!
Жук ( подошел ко мне ). Вот ребенок и то понимает! Скажи, Михаил Николаевич, хочешь жить при коммунизме?
Я посмотрел на бабтю. Жук присел на корточки, потом поднял меня на руки.
А светлое будущее хочешь видеть?
Я опять посмотрел на бабтю.
Хочешь или нет?
Я ( шепотом ). Хочу!
Жук. Вот! Дети и то понимают, что иного пути нет! А вам вдолбить не можем, что Советская власть — это рай!
Бабтя (вскинула руки к небу, запричитала). Господи! Спаси и помилуй!
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Михаил Пташук - И плач, и слёзы... [Исповедь кинорежиссёра]](/books/1070130/mihail-ptashuk-i-plach-i-slezy-ispoved-kinorezh.webp)