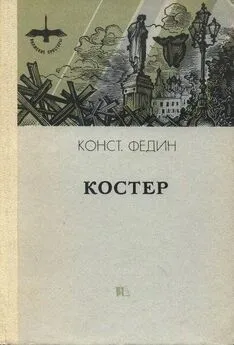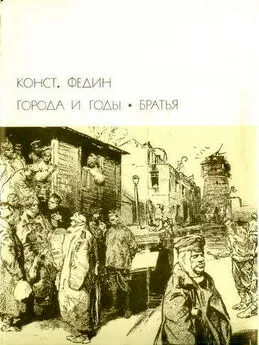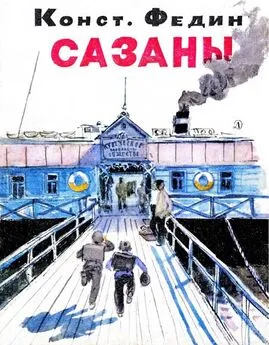Константин Федин - Распахнуть все окна... Из дневников 1953-1955 гг.
- Название:Распахнуть все окна... Из дневников 1953-1955 гг.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:1986
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Константин Федин - Распахнуть все окна... Из дневников 1953-1955 гг. краткое содержание
Распахнуть все окна... Из дневников 1953-1955 гг. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Вчера же осматривал галерею Шевченки — около сотни его акварелей, гравюр, карандашных рисунков и все работы маслом, какие удалось до сего дня собрать.
В Шевченке поэт и художник настолько слиты, что его творческий процесс проходил, очевидно, параллельно. Он иногда сначала рисовал, а затем писал стихи по теме и мотивам рисунка. Иногда же писал сначала, а потом делал рисунки по мотивам стихотворения. Рисовальщик он был первоклассный и вдохновенный. В поэзии его, однако, гений Украины выразился с большей мощью. Но зато рисунки полнее рассказывают нам историю его личности, его трагедию и его место в судьбах поколения. Изобразительное его искусство спасло и удержало его дух на той высоте, которая создала ему славу. Он мог остаться великим революционером, потому что был художником. Если бы не искусство — бог знает, что с ним произошло бы в ссылке...
27 мая. Снова на даче. <���…>
Сегодня встретил третью весну нынешнего года: все утро ходил по саду, — он зацвел без меня и сейчас вот-вот начнет отцветать. Не угадать, какова будет завязь, но на боровинке вообще ни цветочка, а на прочих — немного. Вишня обильнее, чем прошлый год, особенно — молодая, сливы не лучше, нежели всегда. Краски нынче яркие, может быть потому, что чересчур долго не приходила весна, а затем все ринулось наверстывать упущенное. Надо бы завести сравнительную запись раскрытия почек, зацветания и пр. по годам. Да лень-матушка.
4 июня. Странно дожить до седьмого, шестого десятка (а поколение советских писателей старшего «призыва» уже давно покрылось сединами) и на каждом шагу все ссылаться на маму и папу: Маяковский сказал, Горький говорил... Надо бы хоть изредка подумать и своей головой.
А вслед за старшими пишут и молодые: «Решая острые задачи... в часы высокого исторического напряжения... мы всегда ставили перед собой вопрос: а как бы решил эту задачу Маяковский» (М. Алигер в своей статье «Разговор с другом» — о причинах отставания поэзии). Одна из причин — и может быть самая существенная причина отставания всей литературы — состоит именно в этой всегдашней оглядке на предшественников: как бы решили задачу они?
Прочитал отрывки из записных книжек Павленки. Они были рассчитаны на опубликование. Они отделаны. Есть факты войны очень сильные. Есть показательные, обработанные для помещения в печати, в книге, — они только литературны. Афоризмы производят впечатление наружно отшлифованных, но необдуманных. Пример: «Опыт, а не память — основа культуры». Но без памяти немыслим никакой опыт. Опыт есть прежде всего память — тому доказательством весь мир технический, философский, социальный и всякий иной. Забудь я устройство колеса — что станется с телегой культуры?.. Стукнувшись лбом о стенку, я должен прежде всего запомнить этот опыт [Может быть, «опыт» значит по Павленке — эксперимент? Но и «эксперимент» невозможен… без памяти. — примеч. Федина].
И в каком же противоречии находится «революционный» афоризм Павленки о памяти с роковым вопросом Алигер: «а как бы решил эту задачу Маяковский». Искать ответа на нынешние вопросы у предков и... отрицать способность памяти служить основой культуры!..
9 июня. Ночь. Читал о Бернсе, и мне захотелось написать заметки из путешествий на Запад. Не надо чего-нибудь исчерпывающего. Только коротко. Впечатления, отчетливые мысли.
Бернс (и Шотландия). Де Костер. Может быть, немного воспоминаний — о Нексе, например. О людях разных стран.
Пересмотреть, что было записано в поездках.
Уже два часа. Была гроза и короткие ливни, которые налетали с шумом и уносились, как поезда.
9 августа.
Календарь:
из Москвы поездом в ночь на 4-е число; в Чопе — ранним утром 6-го; в Праге — вечером 6-го; в Варах утром 7-го, часов в 8.
Встретился в «Империале» с Мравинскими, Черкасовыми, Кавериными. Несколько знакомых лиц по прошлому году. С Мравинскими очень хорошо, с Женей — особенно. Он довольно спокоен и поправился. <���…> Вчера, 8-го я их проводил в Москву. Письмо с ними моей Нине. Успел с Женей поговорить о новостях и всякой всячине. Он очень жалел, что мы разъехались нынешний год и свидание было слишком коротким. Я тоже жалею, что его здесь уже нет. Он остается все тем же думающим художником, — тип все более редкий у нас. Как собеседник он великолепен, — у него какие-то внезапные вспышки чутких и острых догадок — что хочет выразить партнер, и его слушание — не только внимание к мысли говорящего, но и своя мысль, всегда живая и неожиданная. В этом отношении его здесь некому заменить, да и не только здесь... Право, жалко, что мы не пожили вместе подольше.
У меня такое чувство, что я отсюда не уезжал весь год. Об этом годе тяжко думать — до чего же он бесплоден.
А тут ничего не переменилось, как не переменилось меню столовой, ремесло докторов и даже серые дожди над великолепием гор и лесов.
10 августа. Продолжение продолжается...
Вчера в кино — «Moulin rouge», сцены из жизни Тулуз-Лотрека, Франция искусства и нравов 90-х годов. Это блистательно. <...>
На первый взгляд сюжет «Moulin rouge» исчерпывается тем, что физический урод не может найти личного счастья, и эта его отверженность от блага любви приводит его к гибели; Тулуз-Лотрек становится алкоголиком и умирает.
Но подтекст сюжета — судьба искусства в жизни общества. Само уродство героя становится символичным: он — жертва общества.
Отсюда — богатое по разносторонности окружение художника: аристократия, сыном (а из-за своего уродства и пасынком) которой он является; буржуазия — настоящий, грубый хозяин эпохи; дно общества — проституция, альфонсы; интеллигенция во образе богемы. Для тех, кто хотел это заметить, в картине промелькнули и рабочие. Это уборщицы кабаре, моющие полы пустого зала, уже поутру, со своими швабрами и подоткнутыми юбками. Сцена эта сильнейшая! — поднимается из-за стола, сидя за которым прорисовал всю ночь канканирующих шансонеток художник, и зритель впервые обнаруживает, что художник — урод. Он — последним из посетителей покидает притон. Он еле передвигается на коротких, почти по колено ногах, с палочкой, мимо поломоек, не обращающих на него никакого внимания, — он завсегдатай. Париж живет и живет дальше, — ушли одни, напившиеся допьяна шампанским со своими ночными красотками, пришли другие, на тяжелую, грязную работу, за горьким куском своего хлеба, за той крохой пропитания, которая осталась на их долю от пиршества бездельников и пропойц...
Мне вспомнился в эту минуту мой новый — 1934-й год: Монпарнас, сначала кабаре, потом гигантский ресторан «Куполь», где похмелялась загулявшая толпа парижан, и вдруг — рассвет на улице, серое утро, и — рабочие, погружающие в грузовые машины лопатами объедки лангустов, креветок, устриц, битую посуду, пустые бутылки — целые горы этого страшного мусора высились на мостовой перед трактирами и кабаре,— и методически харкали железом по асфальту лопаты, как они харкают, когда перекидывают с мостовых в подвалы привезенный уголь... Так же тогда рабочие делали свое тяжелое дело, не поднимая от работы глаз на проходивших с пьяным шумом и песенками гуляк... Весь Париж в картине «Moulin rouge» проходит в великолепных типах эпохи, в которых мы узнаем героев Мопассана и Золя. При этом постановщик интерпретирует лица, городские сцены, природу в манере художников, к плеяде которых принадлежит главный герой — Лотрек, т. е. в манере импрессионистов. Это еще глубже связывает действие фильма с эпохой и психологией героя: мы видим мир таким, каким его видели французы в лице мастеров живописи конца XIX века. Бегут, движутся улицы Парижа, и за ними мы улавливаем бег и движение мысли художника-импрессиониста Тулуз-Лотрека. Самая сущность его видения, ядро его восприятия и понимания действительности передано постановщиком в приемах, свойственных герою как изобразителю своей эпохи. Еще больше и глубже усиливается такое конкретное решение задачи демонстрацией работ Тулуз-Лотрека — его литографий, его картин, перекликающихся то с Дега, то с Сезанном, то с Ван Гогом...
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: