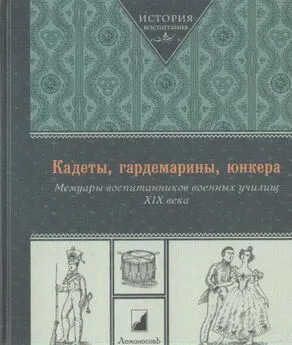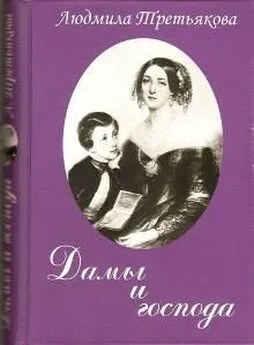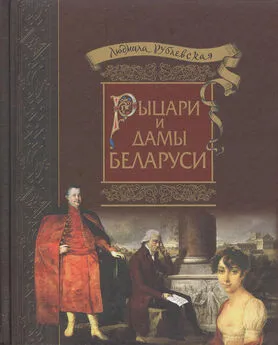Людмила Якимова - Мемуары учёной дамы
- Название:Мемуары учёной дамы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:0101
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Людмила Якимова - Мемуары учёной дамы краткое содержание
Мемуары учёной дамы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
О том, насколько неоднороден и своеобразен был состав горно-алтайского общества, говорит колоритная фигура Арнольда Константиновича Мери, личности поистине легендарной, исторической, даже мифологической. Двоюродный брат президента Эстонии Леннарта Мери, он прошел жизненный путь, отмеченный крутыми поворотами советской истории, на своей судьбе испытал колебания, зигзаги и сломы идеологической линии правящей партии, познав и взлеты, и падения. Участник Великой Отечественной войны, четырежды раненный, он стал первым эстонцем, удостоенным звания Героя Советского Союза. После войны он делал успешную карьеру общественно-политического лидера, работал секретарем ЦК комсомола Эстонии, учился в Высшей партийной школе при ЦК ВКП(б), но, став жертвой клеветы, лишенный орденов и званий, оказался в Горно-Алтайске, где работал сначала учителем труда в школе, а после реабилитации в 1956 г. и окончания ВПШ — преподавателем политэкономии в пединституте. Здесь-то он и предстал однажды перед коллективом во всем сиянии своих орденов: Золотой Звезды Героя, двух орденов Ленина, орденов Отечественной войны I и II степени, двух орденов Трудового Красного Знамени, двух орденов Красной Звезды... В 60-х гг. он вернулся на родину, где работал на руководящих должностях в сфере культуры и образования. Но превратности судьбы не оставили его. Распался Советский Союз. Эстония обрела независимость, и уже в глубокой старости А. К. Мери снова подвергся гонению, теперь обвиненный в геноциде по делу депортации на одном из балтийских островов...
К счастью, мое заточение в гостиничном номере, похожем на конуру, надолго не затянулось. Повезло, как это иногда случается, совершенно неожиданно. Семья преподавателя педагогики Красновского уезжала в отпуск и мое проживание у них в квартире во время их отсутствия рассматривала как хороший способ не беспокоиться о ее сохранности.
Квартира в типовом доме на Социалистической улице состояла из большой комнаты с альковом для спального места, отделенным от общего пространства шторой, и кухни; была и ванная. Красновские жили вдвоем, и все в их квартире было рассчитано на долгое, спокойное житье, но смерть Ивана Яковлевича случилась еще при мне, за год до моего отъезда. Я помню эти первые при мне похороны в Горно-Алтайске, как и то, как горько, не стесняясь слез, плакала я тогда. Плакала и о нем, хорошем и не старом еще человеке, и о себе, под внешним декором жизни которой именно этот, не лишенный внутренней прозорливости человек, к тому же педагог по профессии, пытался разглядеть что-то неизъяснимое, скрытое, не понятое другими. Его комплименты, хотя бы в специально предназначенный для этого день 8 Марта, звучали несколько странно, каким-то диссонансом по отношению к привычным: он хвалил не шляпки, духи или что-то другое по части дамских изощрений, а, например, говорил: «Вы стойкий оловянный солдатик». Он часто в моем присутствии цитировал: «Настоящий мужчина — это женщина. Это я вам точно говорю». Или: «Вы никогда не жалуетесь, Людмила Павловна, на трудную жизнь. Вам что, не бывает тяжело?.. Все-таки ответственная работа, общественная нагрузка, дети... К тому же муж...» Мужа он тоже почему-то проводил по разряду «трудности жизни». Муж и правда — иногда любил входить в роль третьего в семье ребенка.
— Вот и на соседей вы не жалуетесь, — добавлял Иван Яковлевич.
— А они, что, жалуются?
— Бывает...
Родина четы Красновских была далеко, они были с Украины, но могила его, теперь уж, верно, заросшая и заброшенная, осталась в далеком Горном Алтае, где он проработал многие годы. Именами таких безвестных тружеников улиц не называют, но дело Ивана Яковлевича все живет, даже не в памяти и воспоминаниях, а в том неуловимом веществе духовности, которое он стремился заложить в умы и сердца своих студентов, ставших потом учителями.
Оказавшись в удобных условиях, я наконец без помех отдалась делу... и запойному чтению — вопреки делу, но как одно отделить от другого? К моему удивлению, в захолустном институте оказалась прекрасная библиотека: хороший набор литературоведческих книг и, что было неожиданно, чуть не все полные собрания сочинений издания А. Ф. Маркса — Мамина-Сибиряка, Чехова, Андреева... Оказывается, библиотека — богатое наследство эвакуированного в годы войны в Горно-Алтайск Московского педагогического института им. Потемкина. Институт вернулся в Москву, а библиотека осталась. Доступ к стеллажам был по-домашнему открытым, словом, как бы сказал папа, «пустили козла в огород».
Мое преподавательское крещение состоялось на лекциях по литературе XVIII века у заочников. Это был совершенно особый контингент студентов: учителя из горных аймаков, русские и алтайцы, преподаватели русского языка и литературы, все они поголовно были намного старше меня, по виду во всяком случае.
Конечно, с точки зрения возможности заинтересовать эту аудиторию и вызвать расположение к себе выгоднее было бы начать с предмета, более приближенного к современности, с XX, например, века — Блока, Маяковского, Всеволода Иванова, а не с Кантемира и Сумарокова. У нас в институте этот курс читал Червяковский, большой, рыхлый, с сияющей во всю голову плешью и огромным, как чемодан, портфелем, служившим одновременно и хозяйственной сумкой. Он был неиссякаемым источником баек о его феноменальной рассеянности, вроде произошедшего на наших глазах случая, когда, выкупив по семейным карточкам хлеб и забыв засунуть его в портфель, он так с буханкой под мышкой и прошагал перед нами первый час лекции в свойственной ему манере от двери до окна и обратно. Его любимцем был Тредьяковский: «Телемахиду» он читал наизусть с восторгом и упоением, буквально закатив глаза к небу, и уроки воспитания Телемаха преподносил как вечные и образцовые для всех времен и народов. Для меня же этот период не был столь родным, и я опасалась приглушить у слушателей интерес к нему отсутствием собственной влюбленности в излагаемый материал. Трудно убедить в каких-либо эстетических достоинствах стихов, которыми услаждал слух своих современников Сумароков:
В победах, под венцом, во славе, в торжестве
Спастися от любви нет силы в существе.
Но тем не менее литература XVIII века оставила в наследство XIX веку достойные имена — Фонвизина с его нетленным «Недорослем», Радищева с его до сих пор непревзойденной силой обличения социальной несправедливости и, конечно же, Гавриила Романовича Державина. Один из самых строгих охранителей царского трона, незыблемый консерватор в политике, он предстал смелым новатором поэтической системы национальной литературы.
Державина я любила независимо от каких-либо профессионально-литературоведческих ориентиров. Он одним из первых русских поэтов сумел облечь в прекрасную поэтическую форму самые простые, обиходные человеческие чувства, сделать предметом искусства бытовое поведение:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: