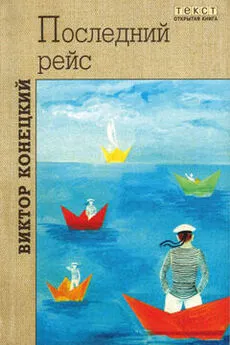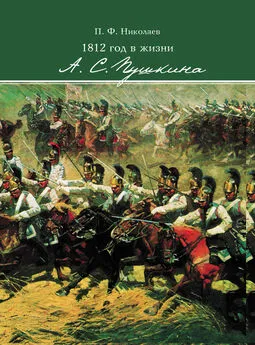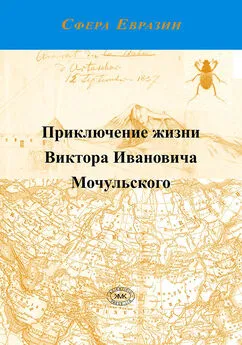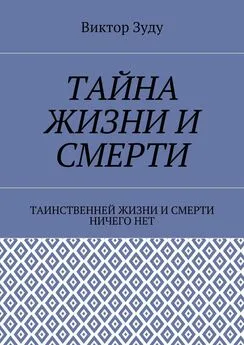Виктор Кунин - Последний год жизни Пушкина
- Название:Последний год жизни Пушкина
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Правда
- Год:1990
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Кунин - Последний год жизни Пушкина краткое содержание
Последний год жизни Пушкина - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
И, наконец, не забудем, что не кто иной как Владимир Федорович Одоевский сказал в 1837 году слова, которые более известны миллионам читателей, чем все им написанное за долгие годы трудов: «Солнце нашей Поэзии закатилось…»
Истоки тех событий, о которых будет рассказано, давние, их надо искать в глубине XVIII столетия, когда появился в 1786 г. на свет Сергий Семенович Уваров. А кончились они — трагически для Пушкина — в 1837 году.
Все в жизни Уварова, с самого рождения его было поставлено как-то криво и нечисто. В грехах его отца, флигель-адъютанта Екатерины II Семена Федоровича Уварова, и матери, из рода Головиных, разбираться теперь не стоит. Говорили, что С. С. Уваров «не сын своего родителя», да видит бог, не он в том виноват. Во всем же остальном, что потом случилось, и что (одна из многих внешних причин!) привело к гибели Пушкина, виновен он и только он — может быть, мерзейший из врагов поэта, Сергий Семенович Уваров [23] В 1987 г. появился «роман в документах и размышлениях» Я. А. Гордина «Право на поединок», посвященный отношениям Пушкина и Уварова. («Нева», 1987, № 2–3).
.
Пушкин, гордившийся древним своим дворянством, справедливо почитал Уварова беспардонным выскочкой, готовым дорогу трупами устлать, чтобы пробиться на самый верх бюрократической лестницы и разбогатеть. Карьера Уварова, не только пронырливости, но и способностей не лишенного, развивалась стремительно: в 1804 г. он был уже камер-юнкером (т. е. в 18 лет, а Пушкин стал в 35!); в 1807 г. был отправлен на службу в русском посольстве при австрийском дворе, где познакомился со многими выдающимися людьми века. В 1809 г. Уварова перевели в Париж, но уже в 1810 г. он вынужден был возвратиться в Россию: мать его умерла, потеряв перед смертью все свое состояние. Только женитьбой мог теперь Сергий Семенович спасти положение, что он и осуществил, вступив в брачный союз с фрейлиной Екатериной Алексеевной Разумовской, дочерью того самого министра просвещения Разумовского, который был причастен к основанию пушкинского Лицея. Невеста была пятью годами старее жениха, но тот ведь женился на деньгах! За женою получил он на 100 тысяч бриллиантов, на 100 тысяч земель и 6 тысяч крестьян. А тут еще фортуна приготовила Сергию Семеновичу очередной победный поворот: едва только тесть сел в министерское кресло, зять стал действительным статским советником и попечителем Санкт-Петербургского учебного округа. В этой должности он, кстати сказать, присутствовал на лицейском экзамене 1815 г., где неведомый еще России отрок предстал перед Державиным с «Воспоминаниями в Царском селе».
В 1818 г. Уваров был уже президентом Академии наук; затем, все поднимаясь в чинах, к зрелому возрасту достиг и вовсе неожиданного — в 1833 г. стал управляющим министерством народного просвещения, а еще через год — министром и председателем Главного управления цензуры. К тому времени, когда разыгралась история, о которой здесь напомним, Уваров имел чин тайного советника, был членом Государственного совета, председателем Комитета устройства учебных заведений, членом Российской академии (оставаясь президентом Академии наук), Академии художеств, членом французского Института, Мадридской академии истории, Геттингенского, Копенгагенского и других ученых обществ. Но, как утверждал один из сенаторов, «ни высокое положение, ни богатая женитьба не избавили его от мелких страстей любостяжания и зависти». Другой современник высказался не менее решительно: «Во всех государствах случается, что жалуют в чины и не по заслугам, а в одной России жалуют и в ум и в знания без ума и знаний».
Знаменитый историк С. М. Соловьев дает Уварову такую характеристику: «…он не щадил никаких средств, чтобы угодить барину (Николаю I); он внушил ему мысль, что он, Николай I, творец какого-то нового образования, основанного на новых началах: православии, самодержавии, народности». Дорого обошлась уваровская «доктрина» России, на корню уничтожая всякую свежую мысль, глуша молодые побеги истинного просвещения.
Словом, как было когда-то с М. С. Воронцовым, на пути Пушкина возник еще один «Голиаф», которого поэт победил столь же безоговорочно, но на этот раз ценою жизни…
Не чужд был Уваров литературе, даже считался в молодых годах знатоком Гомера и гекзаметров; участвовал когда-то в литературном обществе «Арзамас» вместе с Жуковским, Александром Тургеневым, Вяземским, дядей и племянником Пушкиными и многими другими, чьи пути потом решительно разошлись с уваровским. Занимался одно время и археологией.
Долгое время Пушкин, хоть и знал истинную цену Уварову, относился к нему терпимо и, кажется, только к 1835 году раскусил его до конца. Сергий Семенович был человек тщеславный, корыстный, ничтожный в своих душевных движениях и амбициях. Чего стоит, например, высказанное им однажды желание увидеть Пушкина «почетным членом своей Академии наук»! В 30-х годах Пушкина более всего раздражали две линии поведения Уварова по отношению к нему: во-первых, откровенное желание министра покровительствовать поэту, выглядеть этаким меценатом. «Попроси меня, не сочти за унижение, и дела твои пойдут полегче», — так примерно рассуждал Уваров; во-вторых, рассчитанное и обдуманное стремление подменить обещанную поэту личную царскую цензуру обычной государственной, целиком и полностью зависящей от него, Уварова. Или, еще лучше, соединить обе цензуры вместе — нагородив такие, как говорил он, «умственные плотины» на пути Пушкина к читателю, сквозь которые уж никак не пробиться. Даже, по словам более чем далекого от Пушкина мемуариста Н. И. Греча, Уваров терпеть не мог поэта «гордого и не низкопоклонного», и Пушкин, не склонный забывать врагам своим, платил ему тем же. Помнил Пушкин и о том, что не кто иной как Уваров распространял в светских гостиных байку, будто Петр I купил прадеда Пушкина «за бутылку рома».
В 1835 г. подведомственность Пушкина и обычной цензуре была даже оформлена официально. В феврале 1835 г., обеспокоенный материальным неуспехом и читательским равнодушием к «Истории Пугачева», Пушкин записал в дневнике: «В публике очень бранят моего Пугачева, а что хуже — не покупают. Уваров большой подлец. Он кричит о моей книге как о возмутительном сочинении. Его клеврет Дундуков (дурак и бардаш) преследует меня своим цензурным комитетом. Он не соглашается, чтоб я печатал свои сочинения с одного согласия государя. Царь любит, да псарь не любит. Кстати, об Уварове. Это большой негодяй и шарлатан. Разврат его известен. Низость до того доходит, что он у детей Канкрина [24] Егор Францевич Канкрин — министр финансов в 1822–1844 гг.
был на посылках. Об нем сказали, что он начал тем, что был……, потом нянькой, и попал в президенты Академии наук. <���…> Он крал казенные дрова, и до сих пор на нем есть счеты (у него 11 000 душ), казенных слесарей употреблял в собственную работу etc. (в те времена это считалось неэтичным. — В. К .). Дашков (министр), который прежде был с ним приятель, встретив Жуковского под руку с Уваровым, отвел его в сторону, говоря: как тебе не стыдно гулять публично с таким человеком!» Между прочим, главным образом именно из-за этой, и вправду оскорбительной для царского министра, записи дневник Пушкина чуть ли не целый век печатать было невозможно!
Интервал:
Закладка:
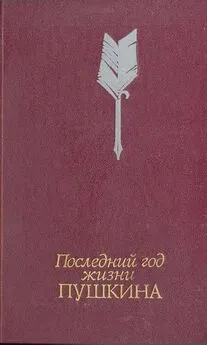

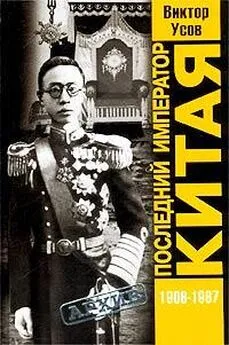

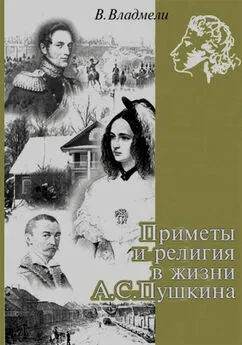
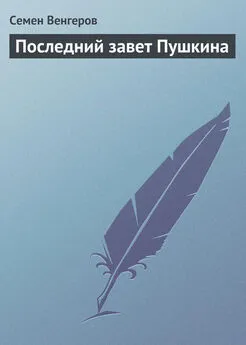
![Виктор Перестукин - Последний довод главковерха [СИ]](/books/1078123/viktor-perestukin-poslednij-dovod-glavkoverha-si.webp)