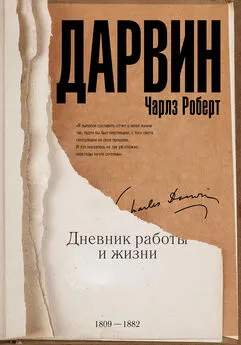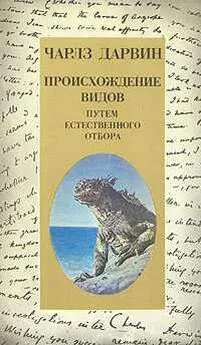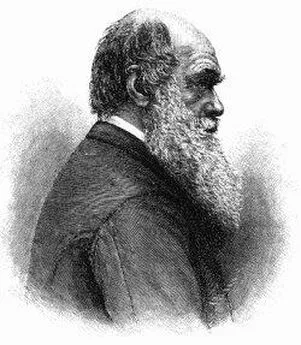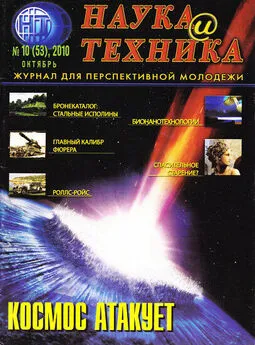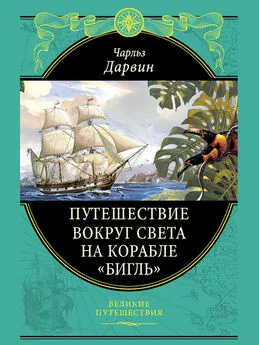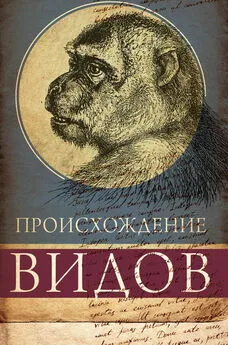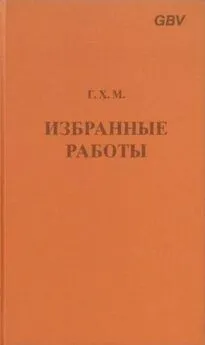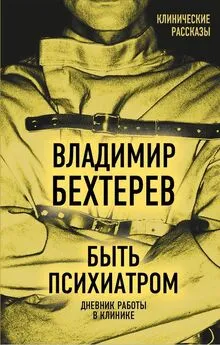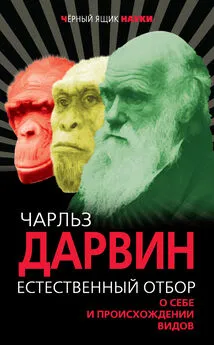Чарльз Дарвин - Дневник работы и жизни
- Название:Дневник работы и жизни
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2018
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-105693-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Чарльз Дарвин - Дневник работы и жизни краткое содержание
Дневник работы и жизни - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Путешествие на много лет отвлекло Дарвина от вопроса о подыскании для себя какого-либо сельского прихода, как это сделали многие из его товарищей по Кембриджскому колледжу Христа, которые, как и он, увлекались естествознанием. После путешествия он быстро стал известным и признанным геологом и зоологом, и мысль о карьере священника как-то сама собой отпала не только у Дарвина, но и у всех членов его семьи, включая отца. Однако теперь вопрос о религии встал перед Дарвином уже по существу, а не формально, поскольку он всем ходом своих научных исследований был приведен к необходимости признать историческое развитие органического мира, т. е. учение, в корне противоречившее всякой религиозной концепции как концепции метафизической. До нас, к сожалению, не дошла «Записная книжка, относящаяся к метафизическим изысканиям», которую Дарвин начал вести, как он говорит в своем «Дневнике», в Шрусбери во второй половине июля 1838 года. В «Воспоминаниях» же, в 1876 г., он говорит, что его отход от религии в 30-х годах начался в форме критико-скептического отношения к книгам Старого и Нового Завета, т. е. к Библии и Евангелию.
В «Жизни и письмах» ( L. L ., т. I, стр. 308) фраза о Ветхом Завете в результате значительных сокращений почти утратила сходство с оригиналом и имеет следующий вид: «Я постепенно пришел к сознанию того, что Ветхий Завет заслуживает доверия не в большей мере, чем священные книги индусов». В действительности же в рукописи «Воспоминаний» Дарвина фраза эта выглядит так: «Я постепенно пришел к сознанию того, что Ветхий Завет – с его до очевидности ложной историей мира, с его Вавилонской башней, радугой в качестве знамения Завета и с его приписыванием Богу чувств мстительного тирана – заслуживает доверия не в большей мере, чем священные книги индусов или верования какого-нибудь дикаря». Таким образом, в 1836–1838 гг. у Дарвина, как мы видим, уже не только не было веры «в буквальную истинность каждого слова Библии», а наоборот, развилось отчетливое понимание того, что библейские рассказы – не более чем литературно оформленные мифы древнейшей, первобытной религии, аналогичные мифам древних индусов и верованиям первобытных народов.
Точно так же, постепенно, хотя и значительно медленнее и преодолевая известное внутреннее сопротивление, Дарвин (начиная приблизительно с того же 1838 г.) «перестал верить в христианство как божественное откровение». Примечательно и здесь одно место, опущенное в L. L . Дарвин говорит, что, став «совершенно неверующим», он уже не мог понять людей, которые, осознав противоречивость и невероятность евангельских рассказов, тем не менее испытывают желание получить доказательства того, что христианство является «истинным учением». Если, говорит Дарвин, это учение истинно, то «незамысловатый текст Евангелия показывает, по-видимому, что люди неверующие – а в их число надо было бы включить моего отца, моего брата и всех моих лучших друзей – эсхатологически [т. е. в силу возмездия при «вечном суде»] потерпят наказание». И выражая свое глубокое презрение и отвращение к подобного рода «истинной религии», Дарвин восклицает: «Это учение отвратительно!»
Приведенное место «Воспоминаний» представляет исключительно большой интерес прежде всего как прямое, непосредственное свидетельство Дарвина о том, что не только он сам, но и его отец, старший брат и ближайшие друзья, т. е. такие люди, как Лайелль, Гукер, Гексли, были людьми неверующими. Во-вторых, интересно сопоставить это место с дальнейшими высказываниями Дарвина и его ссылкой на то, что работы Тэйлора и Спенсера позволяют проследить возникновение первобытных религиозных верований. Из этого сопоставления следует, что Дарвин отчетливо представлял себе существование генетической связи между так называемыми «высшими религиями», с одной стороны, и верованиями первобытного человека – с другой, между идеей возмездия во время «вечного суда» в «конце мира», с одной стороны, и страхом дикаря перед «таинственными силами» и его стремлением умилостивить эти силы при помощи различных жертвоприношений, вплоть до человеческих, – с другой.
Мстящий и карающий Бог, Бог, сеющий в мире бесконечные страдания ни в чем неповинных живых существ, вряд ли соответствует представлению о всемогущем, всезнающем и всеблагом существе, каким рисуют Бога различные религии. Некоторые религиозные мыслители, говорит Дарвин, доказывали, «будто страдание служит нравственному совершенствованию человека. Но число людей в мире ничтожно по сравнению с числом всех других чувствующих существ, а им часто приходится очень тяжело страдать без какого бы то ни было отношения к вопросу о нравственном совершенствовании… предположение, что благожелательность Бога не безгранична, отталкивает наше сознание, ибо какое преимущество могли бы представлять страдания миллионов низших животных на протяжении почти бесконечного времени. Этот весьма древний довод против существования некой разумной Первопричины, основанный на наличии в мире страдания, кажется мне очень сильным, между тем как это наличие большого количества страданий… прекрасно согласуется с той точкой зрения, согласно которой все органические существа развились путем изменения и естественного отбора». Этот пример наглядно показывает, что для Дарвина научное, эволюционное объяснение таких биологических явлений, как наличие неизбежных страданий животных в борьбе за существование или целесообразность в строении и жизнедеятельности растений и животных, было прямой антитезой объяснения религиозного, телеологического, метафизического.
Разобрав несколько других доводов в пользу существования Бога и показав их несостоятельность, Дарвин заключает свое рассуждение указанием на то, что в течение довольно долгого времени наиболее убедительным казался ему довод, заключающийся, как он говорит, в «крайней трудности или даже невозможности представить себе эту необъятную и чудесную Вселенную, включая сюда человека с его способностью заглядывать далеко в прошлое и будущее, как результат слепого случая или необходимости». Эта мысль и вынуждала его, по его словам, признать существование Первопричины, которая «обладает интеллектом, в какой-то степени аналогичным разуму человека», в силу чего он и склонен был называть себя «теистом». Но далее, рассмотрев ряд аргументов и против этого довода, он добавляет: «Насколько я в состоянии вспомнить, это умозаключение сильно владело мною приблизительно в то время, когда я писал «Происхождение видов», но именно с этого времени его значение для меня начало, крайне медленно и не без многих колебаний, все более и более ослабевать».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: