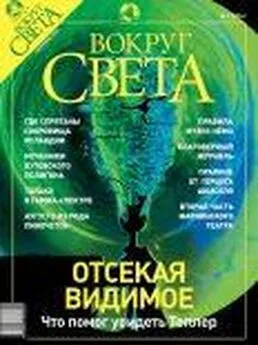Вокруг Света - Журнал «Вокруг Света» №9 за 2003 год
- Название:Журнал «Вокруг Света» №9 за 2003 год
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вокруг Света - Журнал «Вокруг Света» №9 за 2003 год краткое содержание
Журнал «Вокруг Света» №9 за 2003 год - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В традиционной схеме теневого метода исследуемый объект помещается в параллельный пучок лучей, идущий от одного вогнутого зеркала к другому. Поэтому для того, чтобы наблюдать большие предметы и потоки, нужны еще большие зеркала. Это обстоятельство заставило изготавливать дорогие, громоздкие установки и использовать уменьшенные модели реальных технических устройств.
Гари Сэттл, хорошо освоив классическую методику, усовершенствовал ее, заменив сферическое зеркало, формирующее сходящийся пучок, плоским экраном, выполняющим ту же функцию. Данный световозвращающий экран является сердцем всей системы, поскольку используемые лампы-вспышки и фотокамера со встроенным в нее ножом Фуко, отрезающим лишний свет, – это, в общем-то, стандартное оборудование. Задача экрана – направить свет от ламп точно на край ножа Фуко, в этом случае только лучи, отклоненные потоками воздуха, свободно просочатся в объектив фотоаппарата и создадут красивое и необычное изображение. По сути, это решетка из микроотражателей, в чем-то напоминающая обычные дорожные знаки, возвращающие свет фар назад водителю.
Самым сложным в теплеровском шлирен-методе всегда было формирование параллельного пучка лучей, зондирующего исследуемую область пространства. Замена параллельного пучка на сходящийся существенно упростила всю конструкцию, а разработка специальных световозвращающих покрытий сняла все ограничения на размер изучаемых объектов. В установке, разработанной Гари Сэттлом, лучи света, испущенные лампой-вспышкой, отразившись от экрана, собираются на входе в фотокамеру. Основной поток света, не претерпевший отклонения от прямолинейного пути, не попадает на фотопленку, поскольку его отрезает непрозрачный нож Фуко, а вот лучи, преломленные воздушными линзами, напротив, доходят до фоточувствительного слоя и создают видимое на фотографиях изображение.
Владимир Решетов, кандидат физико-математических наук
Досье: География скорби

Если бы можно было представить себе ландшафт в некоей зримой ретроспективе, например в кино, то огромное число уголков именно нашей родины в течение последних 100 лет изменилось настолько и такое количество раз, что было бы непросто поверить в то, что это– один и тот же ландшафт. Речь, безусловно, не идет о тех случаях, когда изменения вызваны чем-то естественным: ростом города, строительством плотины и тому подобным. Речь о том, когда и изменений-то особых не происходит, однако с течением времени ландшафт делается совершенно непохожим на себя. Сам на себя неналожимым. Прежде всего по духу. Это, конечно, связано с драмой нашей истории, ибо тот же Соловецкий монастырь – это нечто совершенно противоположное Соловецкому лагерю особого назначения, размещавшемуся в его же стенах. Таких «перевоплощений» по стране – сотни. Нет нужды далеко ездить, чтобы в этом убедиться. Но одно место потрясло меня особенно – это Бутовский полигон километрах в семи на юг от современной Московской кольцевой дороги.
Здесь – прекрасное по своим ландшафтным возможностям место, не случайно оказавшееся в том венце усадеб, которым некогда окружена была старая Москва. Эта усадьба звалась Дрожжино. Парк, пруды, барский дом, конный завод, ипподром. Ее хозяин, И.И. Зимин, был коннозаводчиком. Управлял же имением его племянник, Иван Леонтьевич, жена которого, С.И. Друзякина, была певицей в опере и в свое время считалась одной из лучших исполнительниц партии Татьяны Лариной. Усадебный дух! Дух парка, сада: оранжереи, желтый песок, особенно любимые в подмосковных усадьбах белорозовые маргаритки и, конечно же, забавы. Слон, пущенный в парк для развлечения гостей, обезьянки, лошадки-пони из зверинца помещика Н.О. Сушкина, жившего в недалекой Щербинке. Постоянные наезды гостей из Суханово (имения Волконских), из Астафьево, катание на лодках, фейерверки, танцы дрессированных лошадей на круглой поляне…
Ну а потом – будто скукожилась и прогорела пленка, и– изображение блекнет, блекнет, пока вдруг не возникают какая-то понурая деревня, неухоженный парк, люди в фуражках…
Барский дом уже исчез, но что-то еще узнаваемо: вот конюшня, лошади… А потом снова – провал, скукоживание пленки, ибо метаморфоза неокончательна – бывшему имению Зиминых суждено было стать даже не сельхозколонией ОГПУ, а жутким местом, где всякий дух жизни вытравлен, где смерть торжествует во всей своей голой неумолимости: засекреченным, нигде, ни в каких архивах не значащимся Бутовским расстрельным полигоном.

В 1934 году из Екатерининской пустыни, незадолго до этого превращенной в тюрьму (впоследствии известной как Сухановка – секретная политическая тюрьма НКВД), в Дрожжино на десяти подводах привезли зэков.
Жителей деревни, прилегавшей когда-то к усадьбе, почти всех выселили в поселок Подсобное хозяйство, обслуживающий Дом архитекторов «Суханово», разместившийся в имении Волконских. Ну а зэки обнесли два гектара леса колючей проволокой и внутри, на месте, где прежде были яблоневый сад и кусок парка, сделали еще одну выгородку: тогда там ни забора не было, ничего – проволоку так и вели по деревьям, она в двух местах, впившись в кору, сохранилась и сегодня. Оставшимся жителям Дрожжино и близлежащего Бутово было объявлено, что здесь будет стрелковый полигон НКВД. Ну, полигон – и ладно. Время было – не для вопросов. Тем более к такой организации.
И вот с конца 1935-го на полигоне стали раздаваться выстрелы. Потом – весь 36-й, 37-й, 38-й… Бывало, стреляли по многу часов подряд. Иногда вроде крики доносились, один раз будто бы даже женский: «Не трогайте меня, не трогайте меня!» На рассвете… Родители, отпуская детей в школу, запрещали им проходить мимо полигона, говоря, что это «скверное место». Конечно, кое о чем они догадывались, да и как не догадываться: почти все работали в НКВД – кто в столовой, кто извозчиком, кто истопником, кто шофером. Был там, в Дрожжино, мужик, дом у которого, прежде чем все обнесли колючкой, стоял прямо на территории полигона. Так вот он в спецзоне работал, по вечерам…
И все его звали Федька-палач. Хотя он палачом не был. Он на экскаваторе работал. И он-то уж точно знал, почему это место «скверное». Потому что каждый день здесь сотнями расстреливали людей. А он их землей присыпал с помощью бульдозерного ножа, которым был оборудован его экскаватор «Комсомолец». Ну и новые рвы копал – глубина 3 метра, ширина – 4, а длина – хоть 100. Так что по сравнению с тем, что другие знали-видели раз-другой, мельком, возвращаясь с ночной электрички, – проносящиеся мимо «воронки», крытые «автозаки», – он, можно сказать, знал почти все. Но никому не обмолвился ни словом…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: