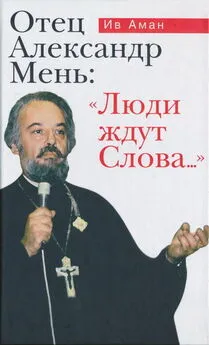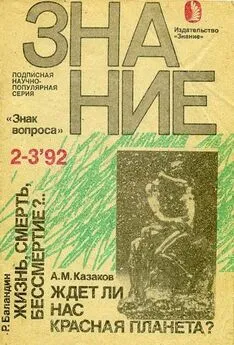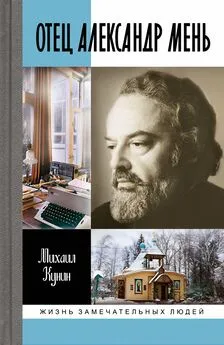Владимир Илюшенко - Отец Александр Мень: Жизнь. Смерть. Бессмертие
- Название:Отец Александр Мень: Жизнь. Смерть. Бессмертие
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Центр книги ВГБИЛ им. М. И. Рудомино
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978–5-7380–0348–6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Илюшенко - Отец Александр Мень: Жизнь. Смерть. Бессмертие краткое содержание
Александр Мень — одна из самых ярких, самых значительных и трагических фигур XX столетия. Владимир Илюшенко, близко знавший о. Александра, создал живой портрет этого религиозного гения, посвятившего каждое мгновение своей жизни служению Богу и людям. В книге помещены также письма, другие не издававшиеся ранее тексты самого Александра Меня и около 50 его фотографий из архива автора.
Отец Александр Мень: Жизнь. Смерть. Бессмертие - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Да, мир во зле лежит — это истина. Но значит ли это, что мы, христиане, должны отвернуться от мира, проклясть его и сказать, как говорят некоторые сектанты: пусть он летит в тартарары, этот мир, а мы спасемся? Мы одни спасемся, а кто к нам не присоединится, тем хуже для них — они пойдут в геенну огненную, туда им и дорога.
Должны ли мы так поступать?
Ни в коем случае. Мы призваны не спасать себя вопреки миру, а спасать мир, как бы пафосно это ни звучало. Мы призваны преображать этот мир любовью, став более зрелыми и более сильными. Не только мы надеемся на Бога, но и Он надеется на нас. Оправдаем ли мы Его ожидания?
Мы должны задать себе вопрос: чего хочет от нас Бог в этом меняющемся мире?
Думаю, Он хочет, чтобы мы тоже изменились. Но как? Не так, как изменился мир, не в эту сторону. У нас должен быть иной вектор: мир постепенно погружается в хаос, а мы должны противостоять этому. Если мы, христиане, не станем атлантами, поддерживающими этот мир, — он рухнет.
Наша ответственность в этом меняющемся, опасно меняющемся мире неизмеримо возрастает. Сегодняшний мир — это суровая школа, и он всё меньше склонен прощать ошибки. Наш ответ на вызов времени должен быть более точным. Мы, если угодно, должны перерасти самих себя.
То, что с нами происходит, возникло не вчера и не позавчера. Такие времена уже были в истории, хотя наше время, может быть, самое опасное, потому что человечество впервые получило возможность уничтожить самое себя, да и любую жизнь на Земле.
В такие времена позарез нужны люди, которые выводят мир из исторического тупика. И они внезапно появляются. Это не политические лидеры, не государственные деятели, не полководцы. Это пророки, апостолы и святые. Это духовные вожди. Бог воздвигает таких людей. Они спасают мир от гибели.
Таким человеком был отец Александр Мень. Он дал правильный ответ на вызов времени — и своего, и нашего. Он говорил: «Без духа, без веры, без корневого нравственного стержня человечество обречено». Он спрашивал: «Стоит ли нам ждать нового всемирного потопа, или мы все же придем в себя и вернемся на путь разума, творчества и любви?..» Это был риторический вопрос: он был убежден, что любовь можетспасти мир. А потому он утверждал: «История имеет смысл, и я верю, что в ней не погаснут живые огни правды и добра».
Можем ли мы, такие разные, все‑таки жить вместе на одной земле?
Если не сможем — погибнем. Но мы должны, мы обязаны смочь.
Есть такая икона, образ Богоматери, — «Умягчение злых сердец». Вот это то, что нам нужно. И мы можем взывать к Матери Божией и к Ее Сыну об умягчении злых сердец. Мы должны так действовать и так жить, чтобы преображать свои и чужие злые сердца.
Мы обязаны победить.
ПАСТЫРЬ ДОБРЫЙ В НЕДОБРОЙ СТРАНЕ [66] Доклад на XV международной конференции памяти отца Александра Меня в Библиотеке иностранной литературы. 8 сентября 2005 г. Впервые опубликован в альманахе «Православные вести», №2. М., 2006.
«Пастырем добрым» впервые назвал Александра Меня не я, а те, кто имел на это большее право, — митрополит Сурожский Антоний и архиепископ Сан–Францисский Иоанн Шаховской (тоже замечательные пастыри), примем сделали они это независимо друг от друга. Фактически то же самое сказала Ирина Алексеевна Иловайская, назвав отца Александра «пастырь, миссионер, исповедник и мученик», а это и есть пастырь добрый.
Кардинал Парижский Жан–Мари Люстиже, который видел отца Александра один только раз, свидетельствовал, что «от него исходило необыкновенное интеллектуальное и духовное сияние».
Сияние… Вообще говоря, это трудно было не заметить. Почти любой, встретившийся с ним, ощущал, что происходит что‑то странное: как бы меняется состав воздуха, становится, вроде бы беспричинно, легко и радостно. Это изумляло и даже потрясало. Люди определяли это разными словами или никак не определяли, а просто чувствовали.
Первое, что я ощутил, когда познакомился с отцом, это исходящую от него силу, бодрящую, искрящуюся, благодатную энергию. Веяние благодати было ровным, но очень интенсивным. Это было проявлением его харизмы. Ничего для этого он не делал. Это было его свойством, это случалось, это происходило, и всё.
Позднее я понял в чем дело: отец Александр был живой иконой Христа, не застывшей, не на доске написанной иконой, а живым образом Христа. Он настолько проникся или, вернее, был пронизан духом Христовым, что имел право повторить вслед за апостолом: «Уже не я живу, но живет во мне Христос». Он, понятно, никогда этого не говорил, но так было. Но это означало полное самоотречение и готовность принести себя в жертву. Что потом и произошло.
Вот этот христоцентризм отца Александра — не теоретический, не умственный, а экзистенциальный, это веяние духа, они и делали его пастырем добрым. «Пастырь — духовный пастух» — так Даль определяет в своем словаре, и это точно сказано.
Отношение отца к своим духовным детям было удивительным — очень внимательным, глубоким и тонким, чутким, нежно–заботливым. Он действительно любил каждого из нас, как евангельский пастырь любил каждую свою овцу. И он читал наши сердца как открытую книгу. Он знал нас лучше, чем мы сами себя знали. И вот это абсолютное понимание как‑то внутренне освобождало нас, окрыляло, вселяло полное доверие к нему, позволяло ощущать его как нашего любимого отца. Он нас жалел, он нас защищал. Мы были за ним как за каменной стеной. Но сказать, что он нам всё дозволял, что он смотрел сквозь пальцы на наши художества, — нет. Он ведь знал, с кем он имеет дело. Мы не только ленивы и нелюбопытны, мы, я бы сказал, преступно–равнодушны — и к другим, и к самим себе, к состоянию своего духа.
Почитайте его проповеди — они же к нам были обращены. Там ведь очень жесткие вещи были сказаны. Он нам постоянно напоминал, кто мы есть на самом деле. Он говорил, что изо дня в день, из года в год мы приходим к исповеди «с одними и теми же однообразными грехами. Мы повторяем всегда одно и то же. Мы ни с чем не можем сладить». Мы завистливые, черствые, нетерпеливые, всегда раздраженные. «Человек тем и отличается от зверя, что стремится управлять своими страстями», а мы их не контролируем. «Наши чувства бьются в нас как дикие лошади… Они всегда в нас бушуют, и мы даже не делаем попыток взять их в руки. Это и чувство неприязни, чувство недоброжелательства и просто чувство ярости и гнева».
Он еще сравнивал наши чувства с миной, которая может «взорваться в любую минуту: чуть–чуть на нее наступишь — она сразу дает взрыв. Как только нам что‑нибудь не по нутру — мы готовы мгновенно обрушить на человека град брани, ругательств, злых слов». Мы постоянно жалуемся, обвиняя в своих грехах и проступках кого угодно, но только не себя.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: