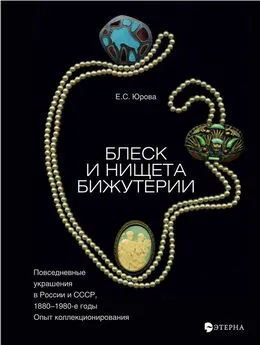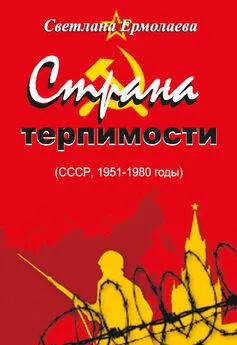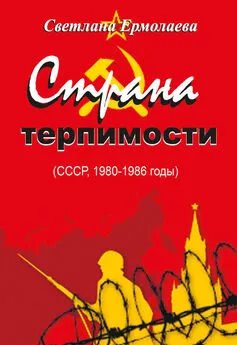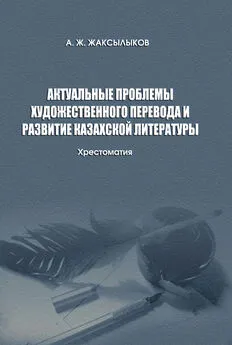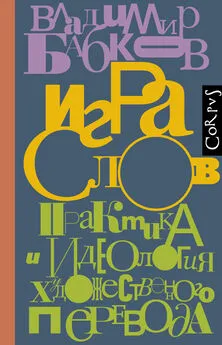Андрей Азов - Поверженные буквалисты. Из истории художественного перевода в СССР в 1920–1960-е годы
- Название:Поверженные буквалисты. Из истории художественного перевода в СССР в 1920–1960-е годы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Высшая школа экономики»1397944e-cf23-11e0-9959-47117d41cf4b
- Год:2013
- Город:Москва
- ISBN:978-5-7598-1065-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Азов - Поверженные буквалисты. Из истории художественного перевода в СССР в 1920–1960-е годы краткое содержание
В книге рассматриваются события из истории раннего советского переводоведения. Обсуждается, как с 1920-х по 1950-1960-е годы в теоретических и критических работах, посвященных переводу, менялось отношение к иноязычному тексту и к задачам, которые ставились перед переводчиком. Разбираются переводческие концепции, допускавшие (и даже провозглашавшие) перевод, сохраняющий необычность и стилистическое своеобразие иноязычного произведения, а также концепции, признававшие лишь перевод, приспосабливающий иноязычное произведение к литературным вкусам и мировоззрению читателя. Показывается, как с помощью критических статей, вооружившись наработанными теоретическими построениями, переводчики вели между собой нешуточную борьбу.
В качестве развернутой иллюстрации к описываемому приводится история конфликта между И.А. Кашкиным, предложившим теорию реалистического перевода, и носителями иных переводческих взглядов – Е.Л. Данном и Г.А. Шенгели. Впервые публикуются архивные документы, относящиеся к полемике Кашкина, Ланна и Шенгели 1950-х годов.
Для переводоведов, историков литературной критики и всех интересующихся историей отечественного перевода.
Поверженные буквалисты. Из истории художественного перевода в СССР в 1920–1960-е годы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
По существу: Байрон очень глубок, очень богат ассоциациями, изобилие мыслей у него часто ломает рамки фразы, – и он дает сложные синтаксические конструкции, нюансируя мысль внезапными параллелями и антитезами, возражая возражателям, делая оговорку и т. и. Он очень часто дает скобки, пояснения в тире и «скобки в скобках».
Вот для образца XIII, 36:
But Adeline was not indifferent: for
( Now for a common-place!) beneath the snow,
As a volcano holds the lava more
Within – et cetera. Shall I go on? – No!
I hate to hunt down a tired metaphor,
So let the often-used volcano go.
Poor thing! How frequently, by me and others,
It hath been stirrd up till its smoke quite smothers!
Дословно:
Но Аделайн не была безразличной, ибо
(Опять общие места!) под снегом,
Как вулкан, таящий лаву более
Глубоко… и так далее. Продолжать мне? – Нет!
Я ненавижу погоню за надоевшими метафорами;
Оставим же слишком часто употребляемый вулкан.
Бедный предмет! Как часто я и другие
Его тревожили, пока его дым не стал вполне удушливым.
Мы видим, что первую же фразу Байрон прерывает (после союза!) вставкой, далее обрывает эту фразу латинским «и так далее», затем задает вопрос и кратко на него отвечает. В моем переводе строфа звучит так:
Но Аделайн отнюдь была не холодна,
Но как вулкан (опять банальные сравненья!),
Кипящий лавою, хоть снега пелена
Его окутала… не надо продолженья!
Метафорами я пресытился сполна Избитыми.
Долой вулкан и изверженья!
Бедняга! Столько раз мы пользовались им,
Что стал нас всех душить его извечный дым.
Несомненно, такие конструкции труднее для восприятия, чем мещанские романсы. Но ведь это ж Байрон! И вправе ли переводчик упрощать ход байроновской мысли и ее игру? Тем более, что внимательный читатель, а не ловец блох, вполне способен освоить и такие, и более сложные строфы.
Энгельс пишет: «Байрон и Шелли читаются почти только низшими сословиями» («Письма из Лондона», М. и Э. Собр. соч., т. II, стр. 282).
Почему же Кашкин полагает, что советский рабочий и советский интеллигент в середине XX века менее способны понимать точный перевод Байрона, чем английский пролетарий в середине XIX века оригинал? Защитнику «русского достоинства» от моих, якобы, «наскоков» подобное раболепство перед Западом не пристало.
Или – пристало?
Но, быть может, это я путаю, я усложняю Байрона?
Рассмотрим обе «абракадабры» (для Кашкина), им приведенные.
У Байрона (IX, 39), читаем.
Think if then George the Fourth should be dug up!
How the new worldlings of the then new East
Will wonder where such animals could sup!
(For they themselves will be but of the least:
Even worlds miscarry, when too oft they pup,
And every new creation hath decreased
In size, from overworking the material —
Men are but maggots of huge Earth’s burial).
Дословно:
Подумайте, если тогда будет откопан Георг Четвертый!
Как тогда человечки тогдашнего нового Востока
Будут дивиться: где такие животные могли питаться!
(Ибо они сами станут лишь мелкотой:
Даже миры истощаются, когда слишком часто щенятся,
И каждое новое творение убывает
В объеме, за израсходованностью материала…
Люди – лишь черви какого нибудь погребенного огромного мира.
В двух предыдущих строфах Байрон говорит о мировых катаклизмах, о Кювье, об ископаемых мамонтах и «крылатых крокодилах» (winged crocodiles). В этой строфе он иронически переходит к другому «чудищу», королю Георгу IV, которого откопают через сотни веков на тогдашнем Востоке (мамонтов ведь находят во льдах восточной Сибири, а отклонение земной оси способно сместить румбы компаса); чтобы обосновать изумление будущих людей перед этим «чудищем», Байрон вводит тему измельчания людского рода. Всё ясно, если брать строфу в контексте.
Я перевожу так:
Вдруг будет выкопан Георг Четвертый! – Тут
Все выпучат глаза на новом том Востоке:
Чем сыт был зверь такой?! (Он измельчает – люд;
Мир вырождается, когда подходят сроки:
Ведь размножение весьма тяжелый труд;
Всё тот же матерьял и те же всё истоки, —
Ну и мельчает всё. Пожалуй, человек —
Лишь гробовой червяк, что гложет мертвый Век.
Кашкин подчеркивает, якобы не понимая, слова «на новом том Востоке» (точно по оригиналу), «он измельчает – люд» (абсолютно русский оборот), и наконец всю последнюю строку: ему, очевидно, «непонятно», кто кого гложет. И всё это для того, чтобы написать:
Теснота и косноязычие здесь обессмысливают текст (231,2, 2).
В чем же «теснота» и где «косноязычье»?
Читатель по достоинству оценит эту «оценку»… Дальше. Кашкин пишет:
Простая мысль Байрона, что Беркли в своей философии превращает вселенную в сплошной вселенский эгоизм[подчеркнуто здесь мною. – Г. Ш.], в передаче Ш становится сплошной абракадаброй (231, 2, 5).
Прежде всего, укажу кандидату филологических наук, что Байрон такой глупости не говорит. Он говорит об ЭГОТИЗМЕ (= солипсизму), а не об эгоизме [118].
Это не однозначные понятия, что известно каждому студенту философских наук. Неужели Кашкин никогда не раскрывал «Материализм и эмпириокритицизм» В.И. Ленина, где блестящие страницы отведены Беркли и берклеанству?..
Вот что говорит Байрон (XI, 2):
What a sublime discovery’t was to make the
Universe universal egotism,
That all’s ideal – all ourselves! I’ll stake the
World (be it what you will) that that’s no schism.
Oh Doubt! – if thou best Doubt, for which some take Thee,
But which I doubt extremely – thou sole prism
Of the Truth’s rays, spoil not my draught of spirit!
Heaven’s brandy, though our brain can hardly bear it.
Дословно:
Что это было за возвышенное открытие – сделать
Вселенную универсальным эготизмом,
Где всё идеально, всё – мы сами! Я ставлю (о заклад)
Мир (будь он всё, что вам угодно), что это – не схизма.
О Сомнение! – если ты то Сомнение, за которое многие тебя принимают,
Но в чем я весьма сомневаюсь, – ты, единственная призма
Для лучей Истины, не отнимай моей тяги к духу,
К этой небесной водке, хоть наш мозг с трудом выносит ее.
Здесь играют слова universe-universal, brandy-brain; слово spirit означает и «спирт», и «дух», что дает основание Байрону называть «идеальное» «небесной водкой».
Как видим, строфа весьма сложна в оригинале, синтаксически очень многослойна, трудна интонационно (заметим, что в 1-й и 3-й строках на рифму выдвинут артикль, в произнесении неотделимый от существительного). Что же удивительного в том, что такая конструкция не под силу некоторым – скажем вежливо – умам?
В моем переводе строфа звучит так:
Что за открытие! Вселенье эготизма
Во всю вселенную! Мир идеала – мы!
Но эта мысль (клянусь! мир о заклад!) не схизма.
Сомненье! Коль тебя сомненьем все умы
Чтут одинаково (сомнительно!), – ты, призма
Для света Истины, не стой на страже тьмы.
Дай Spiritus мне пить (не спирт: здесь нет описки),
Хоть многим он стучит в виски, – небесный виски.
Что здесь мы видим? Прежде всего – весьма точный перевод, в котором сохранены и мысль, и тон, и манера подлинника, и его ирония; в котором затем воспроизведена игра слов. И хотя «добавлен некий Spiritus», как пишет Кашкин (232, 1, 1), но добавлен он для раскрытия двоесмыслицы со словом spirit («дух», «спирт»).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: