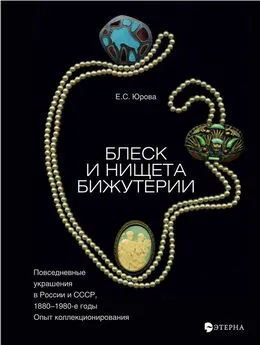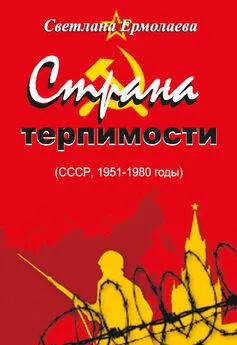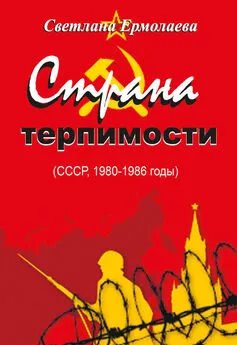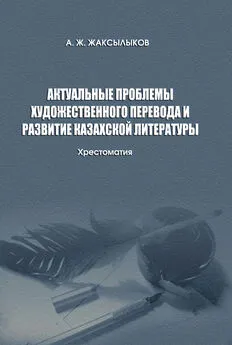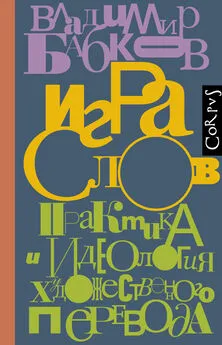Андрей Азов - Поверженные буквалисты. Из истории художественного перевода в СССР в 1920–1960-е годы
- Название:Поверженные буквалисты. Из истории художественного перевода в СССР в 1920–1960-е годы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Высшая школа экономики»1397944e-cf23-11e0-9959-47117d41cf4b
- Год:2013
- Город:Москва
- ISBN:978-5-7598-1065-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Азов - Поверженные буквалисты. Из истории художественного перевода в СССР в 1920–1960-е годы краткое содержание
В книге рассматриваются события из истории раннего советского переводоведения. Обсуждается, как с 1920-х по 1950-1960-е годы в теоретических и критических работах, посвященных переводу, менялось отношение к иноязычному тексту и к задачам, которые ставились перед переводчиком. Разбираются переводческие концепции, допускавшие (и даже провозглашавшие) перевод, сохраняющий необычность и стилистическое своеобразие иноязычного произведения, а также концепции, признававшие лишь перевод, приспосабливающий иноязычное произведение к литературным вкусам и мировоззрению читателя. Показывается, как с помощью критических статей, вооружившись наработанными теоретическими построениями, переводчики вели между собой нешуточную борьбу.
В качестве развернутой иллюстрации к описываемому приводится история конфликта между И.А. Кашкиным, предложившим теорию реалистического перевода, и носителями иных переводческих взглядов – Е.Л. Данном и Г.А. Шенгели. Впервые публикуются архивные документы, относящиеся к полемике Кашкина, Ланна и Шенгели 1950-х годов.
Для переводоведов, историков литературной критики и всех интересующихся историей отечественного перевода.
Поверженные буквалисты. Из истории художественного перевода в СССР в 1920–1960-е годы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Кстати, у Козлова в этом месте говорится, хотя «красиво»: «Когда лучи денницы заалели», – но в полном противоречии с байроновским grey…
Дальше. У Байрона (XII, 68): в романтических странах Where lives, not lawsuits, must be risk’d for Passion, – дословно: «где ради страсти должно рисковать жизнью , а не судебным процессом»; подчеркнутые слова в оригинале близко созвучны. У меня: «…в знойных странах, Где жизнью риск, не иск, слепая [115]Страсть влечет». Я охотно признаю, что фраза здесь тяжеловата, что не хватает союза «а» («риск, а не иск»), восполняемого лишь особой интонацией. Но в отношении каламбура – что здесь «вымученного»? У Козлова тут
блистательно: «Покинув знойный край сердечных гроз, Где за измену часто ждет могила, А не процесс, исполненный угроз».
Дальше. У Байрона (XII, 63) говорится, что якобы невинный флирт (речь идет о кокетке): Not quite adultery but adulteration, – дословно: «не прелюбодеяние, а брожение» (и в то же время «прелюбодеяньице»). У меня: «Ведь жажда пряного, пикантных блюд – не блуд». Вновь тот же вопрос: что тут «вымученного»? У Козлова здесь: «Так что ж? – зато она чужда порока». Целомудренному Кашкину это нравится больше. Каждому свое.
Наконец, последний пример. У Байрона (VII, 27) говорится о плохо построенных батареях: They either miss’d , or they were never miss’d. And added greatly to the missing list. Дословно: «с них или промахивались, или по ним никогда не промахивались [116], но они щедро пополняли список погибших» (букв, «пропавших»). Я попытался воспроизвести эту труднейшую игру: «С них мажут при пальбе, по ним же «мазу» нет, И кровь размазанных багрит их парапет». Но у меня в данном случае – я готов признать – «не вышло». Основной недостаток моего субститута в том, что у меня игра идет на жаргонных словах, на метафорических оборотах, а в оригинале лексический колорит совсем иной. В тексте, подготовленном для нового издания, мною найдено другое решение.
Как видим, из четырех примеров, которыми Кашкин намеревался сокрушить мою каламбуристику, примеров отобранных, выисканных, лелеянных семью няньками (ибо они же фигурируют в кляузе вышеупомянутого критического синедриона), лишь один работает против меня, – да и то совсем другими особенностями, чем мнится Кашкину. Подлинных недостатков он, конечно, не уяснил.
Перейдем к более важной теме, теме непонятности.
Здесь нападки Кашкина сводятся к тому, что точность моего перевода есть псевдоточность, в силу чего «главное пропадает», а перевод становится непонятен, иные строфы превращаются в сплошную «абракадабру» (231, 2, 5), в «ребусы» (231, 1, 5).
Для начала я отмечу некоторые приемчики Кашкина.
Так, приведя в пример «абракадабры» полностью строфу 2-ю из XI песни, где говорится о Беркли (231, 2, конец), он, вновь упомянув имя Беркли, приводит (232, 1, 3) четыре строки в переводе Козлова. Они абсолютно несхожи с моими. Читатель, завороженный словесной магией Кашкина, думает, что Шенгели наворотил нивесть что. Но Кашкин, цитируя Козлова, дает не вторую строфу, приведенную выше в моем переводе, а ПЕРВУЮ. Первую!
У шулеров такие штуки называются, кажется, «вольтами». Как их именует сам Кашкин, я не знаю.
Далее. В моем Послесловии, говоря об интерпретации стиха и отрицая непродуманный принцип: «переводить надо размером подлинника», я выдвигаю принцип «функционального подобия», отражающего характер стиха, а не внешний облик. Термин этот мною прилагается только и исключительно к сфере стиха.
Кашкин же настойчиво, 5 или 6 раз, распространяет этот термин на общую мою методику перевода (235, 1, 10; 239,1, 6-7-8; 239, 2,1–3), чтобы иметь возможность клеветнически противопоставить мою переводческую манеру «единому методу советского реалистического перевода» (239, 1, 6).
У шулеров такой прием, кажется, называется «накладкой». Как сам Кашкин его называет, мне неизвестно.
Мелкие же образцы передержек и подтасовок рассеяны в статье Кашкина весьма щедро.
Например, приведя клочок VII, 39, где у меня просто сказано: «…князь приказ “взять Измаил”… Суворову вручил», – Кашкин хладнокровно утверждает:
Неизвестно, какой князь вручает Суворову приказ (234, 2, 5).
Между тем, в той же VII песне, в предпредыдущей, 37, строфе сказано: «То был Потемкин…», в предыдущей, 38, строфе говорится, что отправил «Рибас к Потемкину курьера» и тут же, что план Рибаса «вполне одобрил властный князь». Таким образом, не понять, что за князь появляется в строфе 39-й можно либо при глубокой какопсихии, либо… нарочно… Какая глубокая вера в то, что читатель ни в чем не разберется, проступает в таких штуках!..
Приводится отрывок VII, 59:
…Старик
Любил, чтоб на вопрос ответ ему мгновенно
Был дан и коротко. Наш пленник это знал
И лаконически и кратко [117]отвечал, —
и утверждается:
Здесь многословное изложение противоречит не только манере Суворова и подлиннику, но и самой мысли о краткости
и в поучение приводятся соответствующие строки Козлова.
Однако, перед цитируемым отрывком, в котором говорит автор, имеется сам диалог между Суворовым и Джонсоном, переведенный мною так:
Спросил: «Откуда вы?» – «Из Турции, из плена».
– «А кто вы?» – «Те, кого вы видите», – Старик…
Последняя фраза – точный перевод: What are ye? – What you see us. Таким образом «желательный лаконизм» дан именно там, где надо: в диалоге. А рекомендуемый Кашкиным Козлов именно в диалоге из 2 строк делает 4, весьма невнятных:
Спросил: «Откуда вы?» – «Мы из Царьграда, —
Один из них ответил, – и бежим
От турок». – «Кто же вы?» – «Об этом надо
Нас расспросить точнее вам самим». (??)
Здесь великолепен «Царьград» в устах англичанина!..
Спрашивается, в чьем же переводе воплощена «мысль о краткости»? И еще: неужели Кашкину не стыдно так передергивать? Впрочем, этот вопрос – риторический…
Вот таких образцов кашкинской ловкости рук, действительно, можно привести еще множество, и читатель с этими образцами не раз встретится в дальнейшем.
Теперь о «непонятности» перевода и понятливости критика.
Если критик не в состоянии догадаться, как мы видели, кто тот князь, о котором упоминалось 8 строчек назад; если он, читая фразу: «Я камни научу искусству мятежа! Убийству деспотов!», удивляется, как это Байрон собирается учить камни (хотя поэт именно <���это> намерен сделать: For I will teach, if possible, the stones To rise against earth’s tyrants, – дословно: «Ибо я научу, если возможно, камни восставать против земных тиранов» – VIII, 135), а фразу «Убийству деспотов!», абсолютно ясную, благодаря синтаксическому параллелизму, понимает навыворот, – точно Байрон собирается деспотов обучать убийству (232, 1, конец 1 абзаца), – то с такого критика, конечно, мало что можно спрашивать. Но зачем же, говоря словами самого Кашкина (231,1, 5) утверждать: «если мною непонято, – значит непонятно» у переводчика?… Впрочем, Кашкин только прикидывается таким непонятливым.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: