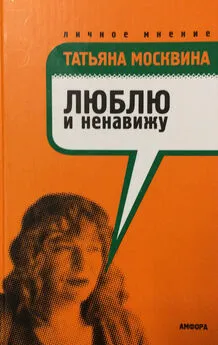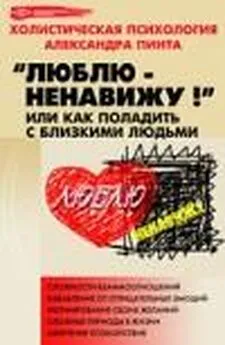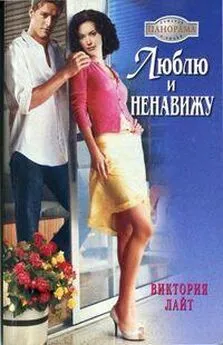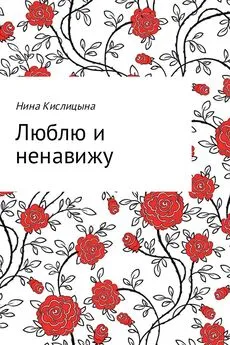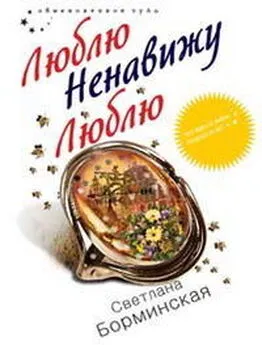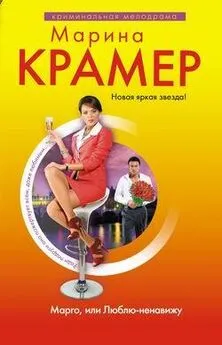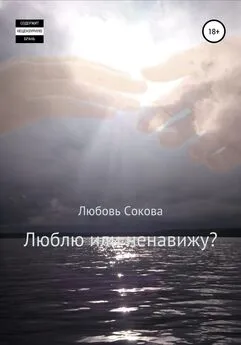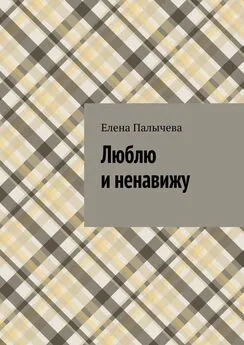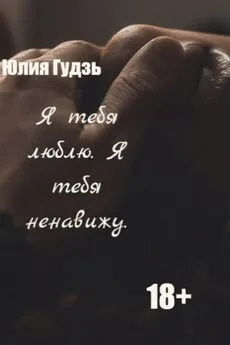Татьяна Москвина - Люблю и ненавижу
- Название:Люблю и ненавижу
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Амфора
- Год:2006
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-367-00071-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Татьяна Москвина - Люблю и ненавижу краткое содержание
Сборник статей популярной петербургской журналистки Татьяны Москвиной включает в себя размышления о судьбах России и родного города, литературные портреты наших знаменитых современников, рецензии на нашумевшие кинофильмы последних лет.
Герой книги – современная Россия. Никита Михалков и Владимир Жириновский, Алиса Фрейндлих и Валентина Матвиенко, Александр Сокуров, Рената Литвинова… и даже сам черт, явившийся в Россию дать интервью, образуют причудливый хоровод отражений в живом уме автора блистательных эссе. Татьяна Москвина любит и ненавидит своих героев и свою Россию с истинной страстью. Водопад блестящих афоризмов и искрометных наблюдений, полет мысли и танец юмора берут в плен читателя сразу и отпускают не скоро: такова истинная власть острого Слова.
Люблю и ненавижу - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Полнозвучное авторское высказывание в нашем кинематографе редкость. Кино нынче, в основном, немудрёное и герои нехитрые. Мало кто занят внутренней жизнью человека. Пошёл, увидел, убил. Деньги взял, девушку трахнул. Но похоже, рядом с огромными, сложными мирами Германа, Сокурова и Муратовой начинает подрастать кино Литвиновой, нарочито женственное, ищущее свои способы композиции, печальное и насмешливое. Где по униженной и опустошенной мужской агрессией и тупостью Земле бродят, в поисках тепла и смысла, женщины. Они не умеют строить в пустыне, у них нет денег, они обязаны быть красивыми и терпеть насилие чужого мира. Они отчаянно боятся старости, нищеты и смерти. Но, как заметил поэт – обэриут Введенский, «кругом, возможно, Бог».
2004 г.
«Необходимый стержень мирозданья…»
(Нечто про Алису Фрейндлих и нас, её зрителей)
Необходимый стержень мирозданья – твоя душа.
Твоя насущна плоть.
Твой разум очень трудно расколоть
И нелегко остановить дыханье.
В преддверье крепком заперто страданье
И можно сердце надвое пороть —
Оно срастётся. Даже размолоть —
И то воспрянет. Вот фундамент зданья.
Я процитировала по памяти фрагмент стихотворенья, услышанного в 1983-м году от друзей, знакомых с поэтом Кари Унксовой, петербуржской чудачкой, писавшей отменные, литые, строгие стихи. Познакомиться не удалось – через год её сбила машина. Мы-то, идущие издалека, помним 1984-й год, данс-макабр взбесившейся безопасности, с арестами, пожарами и внезапными смертями в питерском андеграунде, потому и в «случайность» этой смерти верится плохо. Стихи Кари так и остались в памяти друзей, в перестройку их вроде бы издали за границей, но общим достоянием они так и не стали. Вот такая судьба, одна из многих. «Бесхозяйная Русь, окаянная жисть» (Цветаева). Я говорю сейчас вокруг возникающей темы – терпенья души и упрямства света. Говорю о пафосе, ставшем ругательным словом. Пафос, высокое одушевление, как низко ты пал, сын утренней звезды. А вот люди сидели в ночи, плакали, пили водку, писали стихи – без надежды на что-либо, от прекрасной боли душевного роста, великого сопротивления злу – усилием. Отчего-то все упрямые бесполезные прекрасные шевеления душ наших жителей напоминают мне об Алисе Фрейндлих. Символ, что ли, какой-то… Нет, она никогда гонимой не была, а всегда была обожаемой прекрасной актрисой, не в том дело. Просто мальчики-девочки шестидесятых, когда-то видевшие в актрисе свой идеал – дара, женственности, ума, вкуса, музыкальности, юмора – приходят сейчас на спектакль «Оскар и розовая дама» и видят… Легче сказать, чего они не видят. Они не видят постыдных руин человеческой личности, предавшей свой талант, они не видят позорных выкрутас пошлого актрисничанья, ада «вечной молодости» и гран-кокетства. Алиса Фрейндлих сделала невозможное. Она прошла сквозь время и ничего не потеряла из дара. Значит, это возможно. Значит, человек способен стоять на своём, как Александрийский столп. Нравственный, всеми ощущаемый смысл спектакля, помимо того, о чём рассказывает нам по ходу действия Фрейндлих – ещё и в ней, в ней самой. Смешные зрители хлопают не просто так – светятся лицами, гордятся. Нет, дескать, мы не пропали, не утонули в пошлости, не отравились насовсем печалью и унынием. «Вот у нас что есть». «Она – есть».
Она есть. Чистая победа – и притом на своей территории, в пространстве, покинутом почти что четверть века тому назад.
Я помню, как уходила из театра имени Ленсовета Алиса Фрейндлих. Кроме растерянных и опечаленных зрителей, никто особо не скорбел. Наоборот, настроения были самые радужные – дескать, вот теперь заживём! Наконец-то театр перестанет быть театром одной актрисы, наконец-то расцветут все цветы. Рассказывают, как-то Гёте спросил у своего секретаря, – что, по его мнению, скажут немцы, когда он уйдёт в лучший мир? Тот ответил, что немцы, конечно, ужасно огорчатся. «Ничего подобного, – ответил Гёте. – Они скажут: «Уф!» То есть вздохнут с облегчением – закончена несносная тирания великого человека. Вот такое довольно дружное «Уф!» раздалось и после ухода Фрейндлих. Больше не надо было напрягаться, соревноваться, мучиться сопоставлениями и ревностью. Все цветы немедленно расцвели. Вот только упрямый косный зритель всё тосковал – не по «всем цветам», а по одному-единственному, по заветному своему аленькому цветочку.
С ленсоветовским пространством у Фрейндлих явный роман. Оно соразмерно актрисе и подчинено её воле, оно отлично улавливает и транслирует её излучения и вибрации. Возвращая Фрейндлих её королевство, нынешний главный режиссёр театра Владислав Пази совершил абсолютно грамотную и разумную акцию. Да и пьесу отыскал оригинальную. Вообще-то Э.Э.Шмитт, популярнейший драматург в Европе, умеет делать эффектные вещи для звезд уходящей эпохи. У него есть пьесы для знаменитых актёров, играющих про знаменитых актёров. Но «Оскар и розовая дама», к счастью, не об этом. Я ещё в «Двенадцатой ночи» (БДТ, режиссер Г.Тростянецкий), где Фрейндлих играет шута Фесте, заметила, что актрисе интересно существовать в гротескном рисунке, вне пола и возраста, и что ей теперь, скорее всего, скучно было бы возвращаться к вяло-элегическим песням о закатной женственности. В «Оскаре и розовой даме» ей надо заселить одной собой целый мир, быть-играть и за умирающего мальчика, пишущего Богу, и за его старую сиделку, и за его родителей, и за пациентов и врачей больницы, и даже в некоторой степени за Того, Кому мальчик пишет письма. Такие моментальные перевоплощения, конечно, несут соблазн некоторой эстрадности – на сцене только один человек, и чтобы зритель понял, кто из персонажей сейчас говорит, приходится ведь изобретать какую-то краску, характерность. Фрейндлих делает это, но легко-легко, воздушно, нежно, отслеживая и проживая прежде всего, – движения души. Такая получается Мировая душа, познающая собственные ограниченные воплощения. Это снимает все возможные неловкости восприятия – Фрейндлих не «играет мальчика», но рассказывает нам о невероятном процессе роста и созревания души в человеке на пороге смерти.
Что-то во мне постоянно сопротивлялось этой пьесе – всё-таки взять в герои больного лейкемией ребёнка, на мой вкус, означает сильно облегчить себе задачу возбуждения сочувствия в зрителе. Опыт общения с умирающим есть почти у каждого в зале, нажать эту кнопку и вышибить слезу такими средствами нетрудно. Эту пьесу очень возможно играть противно, безвкусно. Может быть даже, никто на современной сцене, кроме Алисы Фрейндлих, с этим бы не справился. Но она… она о существовании на сцене знает всё. Тут, как у известной компании мобильной связи – посекундная тарификация.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: