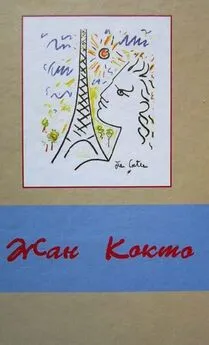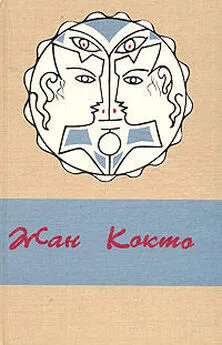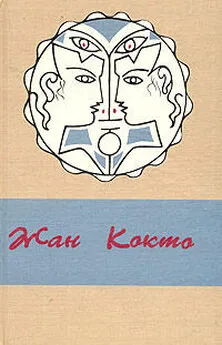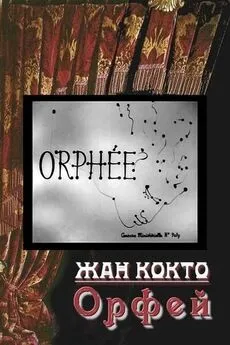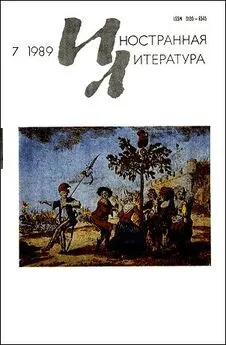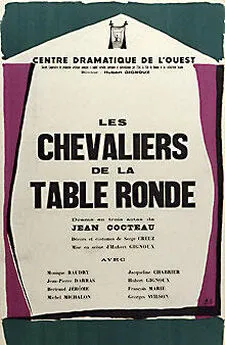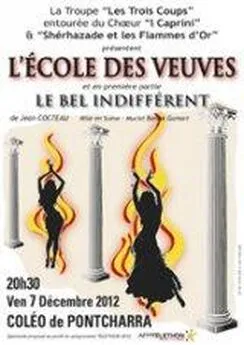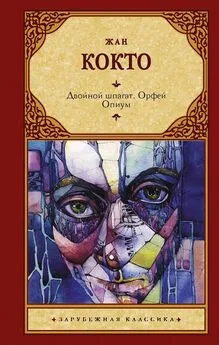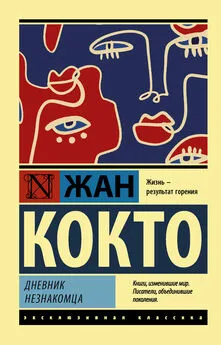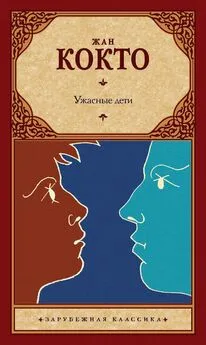Жан Кокто - Эссеистика
- Название:Эссеистика
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Аграф
- Год:2005
- Город:Москва
- ISBN:5-7784-0124-8, 5-7784-0308-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Жан Кокто - Эссеистика краткое содержание
Третий том собрания сочинений Кокто столь же полон «первооткрывательскими» для русской культуры текстами, как и предыдущие два тома. Два эссе («Трудность бытия» и «Дневник незнакомца»), в которых экзистенциальные проблемы обсуждаются параллельно с рассказом о «жизни и искусстве», представляют интерес не только с точки зрения механизмов художественного мышления, но и как панорама искусства Франции второй трети XX века. Эссе «Опиум», отмеченное особой, острой исповедальностью, представляет собой безжалостный по отношению к себе дневник наркомана, проходящего курс детоксикации. В переводах слово Кокто-поэта обретает яркий русский адекват, могучая энергия блестящего мастера не теряет своей силы в интерпретации переводчиц. Данная книга — важный вклад в построение целостной картину французской культуры XX века в русской «книжности», ее значение для русских интеллектуалов трудно переоценить.
Эссеистика - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Вернемся к нашей скромной славе. Странствия переведенных произведений никак не связаны с трудностями их написания. Это справедливо. Ведь они странствуют. Они отдыхают от нашего назойливого надзора. Мне не на что жаловаться. И потому я приветствую всех немецких актрис, играющих «Человеческий голос». Они произносят столь странные тексты, что, заставляя плакать зрителя, больше плачут сами. Это, конечно, никуда не годится и означает, что механизм выжимания слез сломан. Возможно, такова особенность нашего виноватого века. Но смешно переживать из-за этого сверх меры. В эпоху, когда писатели полагали, что живут в прочном и внимательном мире, они, естественно, принимали такие вещи близко к сердцу. Что до меня, я не вижу в том трагедии. Я родился с открытыми ладонями. Деньги и произведения утекают у меня сквозь пальцы. Если они хотят жить, пусть живут. Я ограничиваюсь тем, что пишу их, потому что не могу молчать: не уносить же их с собой в могилу.
И вообще я не перестаю удивляться, что контакт с другими людьми возможен. Потому что они видят в нас только то, что соответствует их уровню. Суфлерша из «Двуглавого орла» все твердила мне о том, какие красивые ноги у Эдвиж Фейер. Это единственное, что она видела из суфлерской будки. На просмотре эпизодов фильма, снятых накануне, я стараюсь не слушать съемочную группу. Каждый судит в зависимости от своего занятия. Оператор смотрит на свет, механик — на наезды камеры, ассистентка — на месте ли мебель, актер — на свою игру.
Я единственный судья.
Мнение опирается на мнение. Кто-то должен высказаться первым. Никто не решается взять на себя эту смелость и караулит другого. Недоверие к собственному мнению, скорее всего, заставит человека высказать суждение, противоположное тому, что он думает на самом деле. Из осторожности человек медлит, воцаряется почтительно-выжидательное молчание (исключением является город, подобный нашему, где первая реакция — осыпать бранью). Пока все ждут, невидимое успевает сложить чемоданы и дать тягу еще до того, как сформировавшееся наконец мнение облепит произведение толстым слоем непонимания.
Тогда начинаются индивидуальные прочтения. Их хор сливается в какофонию. Автор произведения тем временем пытается вылезти из омута видимого, а невидимое норовит поглубже запрятать свое золото.
Чтобы иноязычная публика увидела нас в тексте, важно, чтобы исходный толчок был достаточно мощным — тогда в конце траектории в переведенном произведении кое-что еще останется. «Двуглавый орел» с триумфом прошел в Лондоне — благодаря актрисе и несмотря на изобилующий неточностями перевод. В Нью-Йорке он провалился: перевод был еще дальше от оригинала, потому что исполнительница роли королевы, которая его сделала, взяла за основу английский текст.
Если бы свершилось чудо и мы овладели языками, то не узнали бы книг, которые нас пленяют. А если на ошибки перевода наложатся еще чьи-то личные воспоминания и переплетутся с ними, то потерять их, наверное, будет очень жалко.
Случается, что книга уходит в тень в своей собственной стране. И начинает сиять в другой. Это доказывает, что невидимое в произведении побеждает видимое.
Нам кажется, что если мы участвовали в создании собственного творения, то это должно иметь какие-то последствия. Мы льстим себя надеждой. Творение очень быстро начинает обходиться без нашей помощи. Мы были лишь его акушерами.
Леонардо да Винчи посчастливилось почти все выразить на международном языке графики. Его тексты сопровождаются пояснительными рисунками. Его черная доска, расчерченная мелом, часто обращена к классу безграмотных учеников. Но что начертано, то начертано. Оно становится добычей толкователей. Именно это произошло в 1930 г. в Америке с моим фильмом «Кровь поэта». Его принялись толковать. Случается, именно так я узнаю, что именно я туда вложил. Правда, это вовсе не значит, что я это туда не вкладывал. Совсем наоборот. Просто невидимый уровень фильма (невидимый для меня самого) становится достоянием археологов души, которые способны проанализировать приказы, управляющие моей работой, но для меня лишенные смысла. Я осознаю это позже, когда мне задают вопросы и я даю разъяснения, опираясь на суждения других. Изначально я сам себя не слишком хорошо понимаю. Я вижу только видимое. Это ослепление работой.
Интерпретации были разные. Некоторые из них утверждали, что мой фильм — парафраза жизни Христа, что снег, на котором отпечатываются следы школьника, это плат Вероники, и что в силу того, что Фонтенуа было местом проведения евхаристического собора, по-особому следует понимать фразу: «Пока громыхали вдали пушки Фонтенуа». Эта интерпретация родилась в учебном заведении, где молодые студенты увидели непристойную символику в заводской трубе, кренящейся в начале фильма и окончательно заваливающейся в конце. В моем понимании труба должна была означать, что отрезок времени, в течение которого происходят события, очень короток: все происходит, пока падает накренившаяся труба. Честно говоря, эта интерпретация, как, впрочем, и другие, смутила меня — как нас вообще обескураживает любое категорическое высказывание.
В мой первый фильм Фрейд вмешался довольно бесцеремонно. Одним фильм показался холодным и бесполым. Другие увидели в нем болезненную сексуальность. Вот вам видимое произведение, переведенное на разные языки.
Судьба известных произведений складывается так, что им не избежать перевода. Затуманивая нашу собственную прозорливость, невидимое подпускает других к поиску разгадки. Это еще больше запутывает лабиринт, в котором оно прячется. Чересчур открытые произведения привлекают к себе одних туристов. Они рассеянно проходят мимо, уткнувшись в каталог.
Двадцать лет спустя после «Крови поэта» на многие языки был переведен фильм «Орфей». Я говорю о видимом переводе. Написанные в субтитрах слова сокращаются до минимума, и ни один серьезный человек не придает им ни малейшего значения. Немцы рассказали мне много интересного о тайнах моего фильма. Они предрасположены к такого рода исследованиям в силу своей природной внимательности, склонности к научным изысканиям, не говоря уже об их философском, метафизическом и метапсихическом наследии. В тысячах писем немцы присылают мне на экспертизу предметы, найденные в моих недрах. На них еще следы окаменевшей лавы и окислов. По тому, что ни лава, ни окислы к ним не пристают, я распознаю изделия из золота.
Благодаря археологам я постепенно начинаю видеть фильм иначе и должен это учитывать. Тут происходит своего рода обмен, которого не было бы, если бы фильм переводить не стали.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: