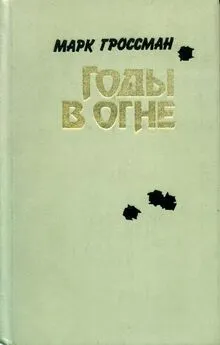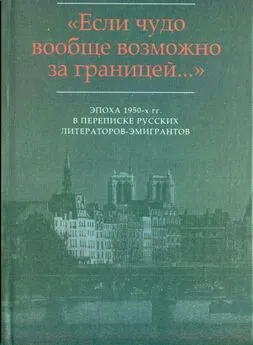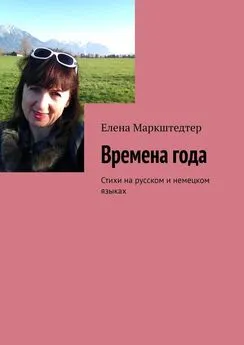Марк Вишняк - Годы эмиграции
- Название:Годы эмиграции
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Директ-Медиа
- Год:2016
- Город:М. ; Берлин
- ISBN:978-5-4475-8340-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Марк Вишняк - Годы эмиграции краткое содержание
Вниманию читателей предлагаются мемуары Марка Вениаминовича Вишняка (1883–1976) – российского публициста, литератора, эмигранта, известного деятеля культуры русского зарубежья. События, описанные в книге, охватывают 1919–1969 гг. Автор рассказывает о социально-политической обстановке в Европе и России, о своей жизни в эмиграции
Годы эмиграции - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Задним числом резолюция VIII Совета эсеров не может, конечно, не показаться более чем странной. Объяснить ее можно лишь тем, что ко времени, когда Совет собрался, большевистская власть еще не успела проявить себя во всей «красе» и достичь тех пределов жестокости, коварства и цинизма, которыми прославилась позднее. Естественно, что психологическая и политическая реакция на ее действия не достигла еще и тех степеней возмущения и отталкивания, которые именуемая «рабоче-крестьянской» власть Ленина, Троцкого, ВЧК и т. д. стала вызывать одновременно с ее укреплением. Сверх того, в мае 1918 года партия социалистов-революционеров имела все основания рассчитывать на то, что разгон Учредительного Собрания и, особенно, «похабный», унизительный и разорительный мир, заключенный Лениным с Германией вызовут активное сопротивление против большевистской власти со стороны возмущенных народных масс в России в гораздо более значительных и интенсивных размерах, нежели это фактически имело место к тому времени, когда собрался эсеровский VIII Совет и, увы, позднее. Отсюда мое и моих ближайших друзей и единомышленников более положительное отношение к интервенции, когда этот вопрос вновь возник перед нами в период Версальской конференции – не только в узкой партийной среде, но и при соприкосновении с реальными вершителями международной политики.
Что именно таким было наше отношение в описываемое время, а не кажется таковым из 50-летнего далека, следует из письма Авксентьева, отправленного из Парижа 31 декабря 1919 года эсерам юга России, выпускавшим журнал «Народовластие». Оно было перехвачено большевистскими ищейками и опубликовано в историческом журнале Истпартии «Пролетарская революция» № 1 в 1921 году. Журнал опубликовал его через два года, как «яркое доказательство окончательного краха народничества». Авксентьев послал его от имени «небольшой группы товарищей»: Бунакова, Вишняка, Зензинова, Коварского, Руднева и своего. В письме говорилось, между прочим: «Оказавшись за границей, мы должны воздействовать на западноевропейскую демократию, чтобы она (для успешной борьбы против «большевизма справа» и порожденного им «большевизма слева», и наоборот) воздействовала на свои правительства, из которых некоторые в нашем представлении, как, например, Соединенные штаты с Вильсоном во главе, могли поддаться этому воздействию. Наше рассуждение было, коротко, таково: большевизм это – полная гибель и России, и демократии, без шансов на воздействие на него и его перерождение; антибольшевистские же фронты не в восстановленной, а лишь в становящейся России; способны к перерождению под давлением русской демократии и Союзников, находящихся тоже под давлением своих демократий. При этих условиях русская демократия может вести там борьбу за органическую работу. Будем же помогать ей. Отсюда и получилась наша точка зрения: требование помощи антибольшевистскому фронту при непременном условии гарантий демократизации его ...Наше предприятие, благодаря тому, что мы получили возможность влиять очень непосредственно на Вильсона, увенчались на первых порах успехом: обращение Союзников к Колчаку было сделано под нашим влиянием. Но – увы! – дальнейшее все застопорилось».
Три элемента мешали развитию нашей деятельности.
1. Самое главное это то, что ни в Америке, ни в Европе мы демократии не нашли: не нашлось «широкой, сплоченной, сочувствующей нам социалистическо-демократической среды, которая поддержала бы нас и проводила бы наши планы ...К глубокому своему горю мы нашли здесь или большевистскую демократию, для которой большевики суть товарищи, русская революция есть большевизм; или, правда, антибольшевистскую (демократию), но в то же время антисоциалистически и антидемократически настроенную буржуазию. Для первых мы были реакционерами, ибо доказывали, что большевики разрушили и демократию и социализм и с ними надо бороться даже вооруженной рукой; а для других полубольшевиками, ибо не лежали на животе перед Колчаком и говорили о демократии».
2. «Менее важное обстоятельство – поведение более “левых” товарищей из нашей группы. За первым обращением к Союзникам должно было последовать второе – с указанием на неточность и неясность формулировок и Союзников, и Колчака и требованием реализации и конкретизации обещаний. Но оно не вышло, так как под влиянием “левой” атмосферы, царящей здесь у социалистов, некоторые заколебались».
И 3. «Наконец, нужно прибавить агитацию русских правых элементов... начавших кричать, что мы не русские патриоты, ибо мы зовем вмешиваться во внутренние дела. Конечно, это отвратительная ложь, лицемерие, ибо они сами только и делают, что просят об этом вмешательстве, только не в пользу демократии. В самом деле, помогать антибольшевикам оружием и т. д., даже блокировать большевиков, – разве это не вмешательство во внутренние дела?..
И теперь наша деятельность фактически ничтожна: вы чувствуете, что вас здесь “используют”. Вы говорите против большевиков – и оказываетесь в руках людей, которые хотят задушить не только большевизм, но и социализм. Вы скажете о реакционности антибольшевистских образований, – ликуют господа, называющие Ленина и Троцкого дорогими товарищами. И самое ужасное, что до России, до ее горя, ее стремлений дела никому нет... Тяжко теперь жить за границей. Мало что можно сделать. Тем более радует нас ваша деятельность. И мы готовы помочь вам, чем и как можем».
Не возражая против резолюции об интервенции, принятой на VIII Совете партии в мае 1918 года, наша группа не могла полностью принять постановления IX Совета от 20 июля 1919 года и тем менее – постановления Х Совета – двумя годами позже. Даже вдохновитель резолюции VIII Совета и, заочно, постановлений IX, Чернов, попав за границу и осведомившись о настроении товарищей в эмиграции, не стал настаивать на строгом соблюдении принятых на IX Совете решений. Он «хорошо понимал, как тянущим тяжелую лямку организационной работы в России хочется обложить покрепче всю заграницу оптом». «Но понятное психологически в России не будет самым целесообразным в здешней среде и заграничных условиях». Отсюда и его «идея»: Керенского и Зензинова «тесно привязать к партии и этим оторвать от правых, ушедших слишком далеко не только от интернационализма, но даже и от социализма, в настоящем смысле этого слова». В то же время он рекомендовал не делать искусственно «левых» и просил уполномочить его «вычеркнуть из письма Заграничной Делегации требование снять с “Воли России” имена партийных людей... Слишком огульная критика может оказать обратное действие» (см. перехваченное и напечатанное в «Известиях» № 119 от 2 июня «Письмо Чернова в ЦК П. С.-Р.», 1921 г.).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: