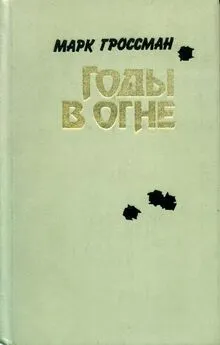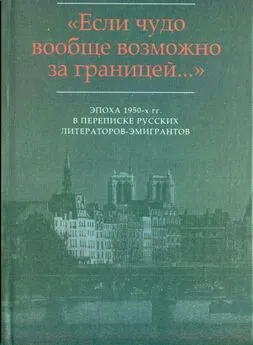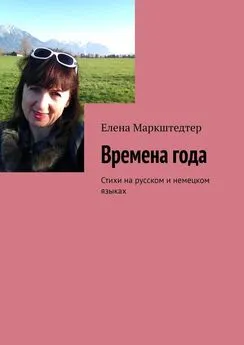Марк Вишняк - Годы эмиграции
- Название:Годы эмиграции
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Директ-Медиа
- Год:2016
- Город:М. ; Берлин
- ISBN:978-5-4475-8340-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Марк Вишняк - Годы эмиграции краткое содержание
Вниманию читателей предлагаются мемуары Марка Вениаминовича Вишняка (1883–1976) – российского публициста, литератора, эмигранта, известного деятеля культуры русского зарубежья. События, описанные в книге, охватывают 1919–1969 гг. Автор рассказывает о социально-политической обстановке в Европе и России, о своей жизни в эмиграции
Годы эмиграции - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Я считал такой подход и оценку роли партии неправильными и был им чужд. Оставался я равнодушен и к строгим требованиям внутрипартийной дисциплины. Чем дальше во времени затягивалось наше пребывание в эмиграции и менее оправдываемы становились оптимистические прогнозы и ожидания, тем очевиднее было – не для меня только, – что политика в собственном смысле в насчитывающей не одно десятилетие эмиграции почти исключена.
Вместе с тем я считал своим долгом сохранять полную лояльность к партии, особенно к ее прошлому, к которому был причастен и за которое нес ответственность, коллективную и личную. Лояльность выражалась в том, что, входя в парижскую организацию, я посещал собрания группы, участвовал в выборах ее руководителей, выполнял возлагавшиеся на меня поручения: выступал оппонентом, докладчиком или содокладчиком на публичных собраниях, на совещаниях и съездах зарубежных организаций эсеров, писал в партийных органах, отстаивал свои и своих единомышленников взгляды и позиции.
Думается, за время эмиграции я был среди тех, кто чаще и больше других писал и печатал в газетах, журналах и книгах, преимущественно по-русски, – но не только по-русски – в объяснение, оправдание и защиту Февральской революции, ее исторического значения и заданий народнической партии с.-р. и демократического социализма. Приходилось защищать, защищаться и нападать на противников и врагов слева, – большевиков, левых эсеров и сотоварищей по партии, – и правых, особенно многочисленных в послебольшевистской эмиграции, ненавидевших в первую очередь социалистов-революционеров, как главных «виновников» Февраля, положившего начало российской разрухе и потере россиянами их родины и благополучия. Спорить и опровергать их было неблагодарной задачей, она мало к чему приводила, но была увлекательна, когда приходилось скрещивать оружие не с фанатиками и графоманами, повторявшими с чужого голоса домыслы и поклепы, ставшие трафаретными, а с первоучителями, которыми бывали иногда такие выдающиеся умы и публицистические мастера, как Петр Струве, Николай Бердяев, Иван Ильин, кн. Евгений Трубецкой, Григорий Ландау и другие, кто на время, а кто и пожизненно стали ненавистниками Февраля и особенно эсеров.
Главным моим занятием за время парижской эмиграции была не политическая и даже не внутрипартийная работа. Главной заботой Фондаминского, Руднева и моей было, как сказано, сотрудничество, редактирование и иное обслуживание «Современных Записок». Однако, иногда с запозданием выходивший трехмесячный журнал не поглощал всей моей литературной «продукции». И одновременно я писал в газетах и журналах на русском и других языках в Париже («Последние Новости» Милюкова, непериодический журнальчик правых эсеров «Свобода», журнал «Русские Записки», «L’Europe», «Le Monde Slave», «Les Cahiers de droits de l’Homme» и др.), в Риге (газета «Сегодня», непериодическое издание «Закон и право» Грузенберга), в Берлине («Дни» Керенского, перешедшие в Париж и превратившиеся затем в «Новую Россию»), и т. д.
Выли не только печатные выступления. Читал я и лекции, университетские и публичные, студентам и слушателям в Париже, Праге, Риге, Ревеле, Печорах. Благодаря связям с французскими академическими кругами и министерством просвещения, русским ученым и политическим деятелям удалось добиться открытия нескольких русских высших образовательных учреждений.
Был создан в Париже Народный университет для чтения популярных курсов широким кругам эмиграции. При Сорбонне, на юридическом и медицинском факультетах парижского университета организованы были специальные курсы, которые читались на русском языке русскими профессорами. Посещаемость этих курсов и преподавание не могли, конечно, идти ни в какое сравнение количественно и качественно с обязательными курсами, которые одновременно читали французские профессора или в свое время русские в своих русских университетах.
Складывавшееся фактически положение стало более устойчивым, когда русское преподавание почти всех предметов было причислено к Институту Славяноведения (l’Institut des Etudes Slaves). Кажется, в 1922 году меня избрали в состав юридического факультета, который состоял из ряда известных русских ученых самой пестрой политической окраски. Проф. Байков был монархист-легитимист, Д. М. Одинец – народный социалист, А. А. Пиленко – видный сотрудник консервативного «Нового Времени», H. H. Алексеев из Праги попал в Париж уже евразийцем, П. П. Гронский, А. М. Кулишер и А. М. Михельсон оставались кадетами, Б. Э. Нольде, H. С. Тимашев, В. Б. Ельяшевич, Кузьмин-Караваев, Бернацкий, Анцыферов в прошлом принадлежали или сочувствовали различным либеральным течениям, в эмиграции же сильно поправели, тогда как Георгий Д. Гурвич и Б. С. Миркин-Гецевич, наоборот, «полевели».
Что именовалось юридическим факультетом русских эмигрантов в Париже 20–30-х годов, имело очень немногочисленную аудиторию. В первые годы я читал, как и другие, курс лекций. Темой я взял «Русские основные законы и политические идеи первой четверти XIX века». Здесь сопоставлялось былое положительное, действовавшее право с правом интуитивным или, в терминах Ф. Ф. Кокошкина, два источника права: официальный закон и общественное провозглашение. Это последнее в России первой четверти прошлого века получило яркое выражение в том, что утверждали и отрицали, или «провозглашали» единственно тогда доступным, нелегальным способом – декабристы.
Несколько лет спустя коллеги по факультету поручили мне руководить «Семинаром» по русскому государственному праву. Это легче было задумать и решить, нежели сделать. Слушателей у нас на факультете было немного, и, как правило, они были недостаточно подготовлены к университетским курсам. К тому же почти все вынуждены были зарабатывать себе на существование и не имели достаточно времени для составления докладов, даже когда были к тому подготовлены. Я обратился поэтому к коллегам, занимавшимся публичным правом, с предложением прочитать в семинаре хотя бы по одному докладу на близкую каждому тему. Ни один не отнесся отрицательно к предложению. И в результате в семинаре продефилировали по очереди все без исключения русские профессора эмигранты, иногда с европейскими именами, причастные к публичному праву. Некоторые собрания бывали чрезвычайно поучительны.
Преподавание наше финансировало французское правительство. Суммарно ассигновки, может быть, были не так малы, но оклады наши были мизерны – 250 фр. в месяц. Выплачивались эти франки аккуратно, и для состарившихся и безработных лекторов составляли часто не безразличную часть приходного бюджета.
Преподавательский персонал при Институте Славяноведения состоял из профессоров разных политических группировок. Возникший же по инициативе русских ученых и политиков эмигрантов, с помощью и при участии профессоров французов, Франко-Русский Институт состоял из лекторов, по эмигрантскому мерилу, «левого» направления, то есть демократов или кадет милюковского толка и умеренных социалистов. Институт посвящен был не политическим событиям, идеям и учреждениям в прошлом, а текущим – тому, что на Западе именуется «science politique», «political science». Возглавлял Институт Милюков. Лекции читали там безвозмездно. Аудитория была тоже немногочисленная. Это учреждение просуществовало недолго, тогда как преподавание и Семинар при Институте прекратились лишь накануне появления в Париже войск Гитлера.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: