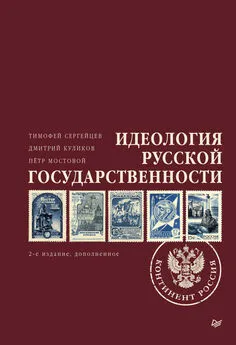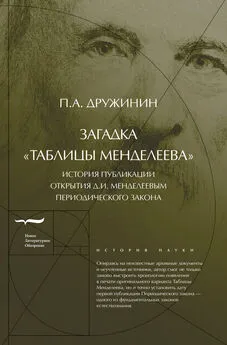Петр Дружинин - Идеология и филология. Т. 3. Дело Константина Азадовского. Документальное исследование
- Название:Идеология и филология. Т. 3. Дело Константина Азадовского. Документальное исследование
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ЛитагентНЛОf0e10de7-81db-11e4-b821-0025905a0812
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-0458-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Петр Дружинин - Идеология и филология. Т. 3. Дело Константина Азадовского. Документальное исследование краткое содержание
Ленинград, декабрь 1980 года. Накануне Дня чекиста известному ученому, заведующему кафедрой иностранных языков, и его жене подбрасывают наркотики. Усилия коллег и друзей – от академиков Михаила Алексеева и Дмитрия Лихачева в Ленинграде до Иосифа Бродского и Сергея Довлатова в США – не в силах повлиять на трагический ход событий; все решено заранее. Мирная жизнь и плодотворная работа филолога-германиста обрываются, уступая место рукотворному аду: фиктивное следствие, камера в Крестах, фальсификация материалов уголовного дела, обвинительный приговор, 10 тысяч километров этапа на Колыму, жизнь в сусуманской колонии, попытка самоубийства, тюремная больница, освобождение, долгие годы упорной борьбы за реабилитацию…
Новая книга московского историка Петра Дружинина, продолжающего свое масштабное исследование о взаимоотношениях советской идеологии и гуманитарной науки, построена на множестве архивных документов, материалах КГБ СССР, свидетельствах современников. Автору удалось воссоздать беспощадную и одновременно захватывающую картину общественной жизни на закате советской эпохи и показать – через драматическую судьбу главного героя – работу советской правоохранительной системы, основанной на беззаконии и произволе.
Идеология и филология. Т. 3. Дело Константина Азадовского. Документальное исследование - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Этот ответ Константин Маркович получил ровно в канун нового, 2000 года – 31 декабря. Завершался последний год ХХ века, того самого, что оставил в отечественной истории море крови. Несколько революций, несколько войн… Моральное и физическое подавление личности… Век, насыщенный человеческой болью и страданием… Пришло время расстаться с ним. И больше не возвращаться.
Жить свою жизнь свободным человеком. Быть ученым. Дорожить своей семьей, прошедшей через горнило испытаний. Не писать больше жалоб.
Но ничего не забыть.
И никого не простить.
Заключение
Первую свою работу, посвященную стихотворению молодого Шиллера памяти Руссо, Азадовский написал еще в начале второго курса университета и представил ее на заседании студенческого научного общества. Это был полный перевод на русский язык, а также историко-литературный комментарий стихотворения, ранее известного в России лишь по сокращенному переложению Л.А. Мея.
Такое событие, по сути начало научного пути филолога-германиста, воспринималось Азадовским не без гордости (тем более что вскоре его работа была напечатана в московском журнале «Вопросы литературы»). И он не преминул упомянуть об этом в разговоре с Б.М. Эйхенбаумом, которого встретил в гостях у Б.Я. Бухштаба. Борис Михайлович посмотрел на молодого человека и довольно мрачно произнес: «Ну, смотрите, я вот тоже начинал с Шиллера. И ничего хорошего не получилось…»
Имел ли в виду Борис Михайлович, умудренный жизненным опытом, что компаративистика может быть опасна в качестве основной научной специальности, или это была свойственная ему горькая ирония? В любом случае слова эти для Азадовского стали пророческими. Сравнительное литературоведение, обрекающее исследователя на параллели и «контакты» между Востоком и Западом, на изучение памятников мировой литературы, на погружение в иностранные языки, на общение с их носителями… Все это было действительно сопряжено для советского ученого с известными опасностями. Особенно если этот ученый не желал следовать методологии, сложившейся в 1940-е годы: выпячивание всего русского в противовес иностранному; такой «научный подход» широко утвердился в эпоху гонений на его отца. Однако Азадовский, даже и на втором курсе Ленинградского университета, вряд ли собирался следовать таким путем.
Новые времена, наступившие в 1991 году, коснулись и гуманитарных наук. Свобода слова, свобода собраний, свобода волеизъявления, свобода передвижения, свобода научного творчества… Сегодня, когда эти свободы вновь постепенно отходят государству, трудно даже представить себе, сколь плодотворной была ситуация 1990-х годов для работы ученого-гуманитария.
Впервые выехав за рубеж в 1991 году, Азадовский становится частым гостем в зарубежных университетах. Современники не без оснований полагали, что он, «свободный от всех долгов», вот-вот навсегда оставит родину, сломавшую ему жизнь, и, устроившись на теплое профессорское место в западном мире, забудет свое прошлое как страшный сон. Действительно, у него неоднократно появлялась такая возможность, но неожиданно для окружающих он принял в конце концов другое решение: остаться в России. Эйфория от нахлынувшей свободы была так велика, что он (и не он один) поверил в будущее своей страны. Да и покинуть родину – это лишь звучит легко, в реальности же совсем иначе: чем более человек осознает свою связь с ней, чем глубже чувствует личную ответственность за ее судьбу, тем труднее ее оставить. Для него это оказалось невозможным. И сегодня уже мало кто помнит, что Азадовский – бывший «политзэк»; он известен в первую очередь как крупный российский ученый.
В 1990-е годы он был избран членом Германской академии языка и литературы, в 2000-е награжден высшей наградой этой страны – офицерским крестом «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия», был отмечен рядом европейских премий, включая премию имени Фридриха Гундольфа за распространение немецкой культуры за рубежом. То обстоятельство, что его заслуги признаны куда выше в других странах, нежели в России, вполне укладывается в сюжет нашей книги: Константин Азадовский никогда не был нужен своей родине; однако родина до сих пор нужна и небезразлична ему.
Несколько слов о том времени, когда разворачивались описанные в книге события. Предварим их цитатой из «Тюремного реквиема» музыковеда Альфреда Мирека (1922–2009), отсидевшего почти год в Крестах по сфабрикованному обвинению:
В народе говорят: «Правда рано или поздно восторжествует». Так оно и есть. Народная мудрость незыблема в своих утверждениях. Но лаконичные изречения обычно требуют уточнения.
Принято считать, что рано – это когда униженный и оскорбленный еще жив и остатки сил употребляет на восстановление своей репутации и честного имени, отмываясь и отряхиваясь от всей той гнусности и пакости, в которые его так долго и усердно окунали. Это – лазурное «рано». Поздно же – когда человека уже нет, и обмывали его (в буквальном смысле) родственники перед похоронами. Имя же его робко и застенчиво, в большинстве своем мимоходом, «восстановили», объявив, что «так получилось» или еще лучше – «время было такое».
Это очень удобно – все списывать на время. Особенно для тех, кому нужно было бы воздать должное за их физические и моральные преступления. Но они почему-то частенько в том же почете, при том же интересе и радостях. И самая большая радость для них – в том, что они-то живы и невредимы, а загнанные на тот свет возразить не могут.
Что же такое были 1980-е годы? Сегодня уже становится все труднее говорить о том, какой в действительности была жизнь в Советском Союзе. Вероятно, привычный и бесспорный тезис 1990-х годов – о том, что Советский Союз все годы своего существования оставался тоталитарным государством, – станет восприниматься через несколько лет как альтернативное мнение по отношению к позиции «историков-государственников». Впрочем, такое вопиющее искажение собственной истории приводит лишь к повторению тех же ошибок. Ведь и 1980-м годам тоже предшествовала эпоха относительной свободы.
Страна уже однажды отреклась от бесчеловечной практики советского прошлого: в 1956 году, на ХХ съезде КПСС, когда Н.С. Хрущев призвал «полностью восстановить ленинские принципы советского социалистического демократизма, выраженные в Конституции Советского Союза, и вести борьбу против произвола лиц, злоупотребляющих властью». И многие тогда понадеялись, что время тоталитаризма необратимо ушло.
Но оказалось, что нравственные изменения общества не лечатся лозунгами и что частичная реставрация – неизбежный атрибут эпохи перемен (вариативна лишь глубина возврата). Эпоха застоя дала с лихвой проявиться общей генетической памяти: навыки попрания прав личности, хорошо усвоенные в 1930-е годы, нашли свое применение и в 1970–1980-е годы. Возобновились преследования; система органов государственной безопасности, которую следовало сократить, еще сильнее разрослась, а восхождение на политический олимп ее начальника дало ведомству реальный повод почувствовать, с одной стороны, полную безнаказанность, а с другой – свою острую востребованность. В результате, как установит в 1991 году парламентская комиссия С.В. Степашина, «КГБ СССР стал самостоятельной политической силой с собственными интересами и объективно превратился в надгосударственный институт».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
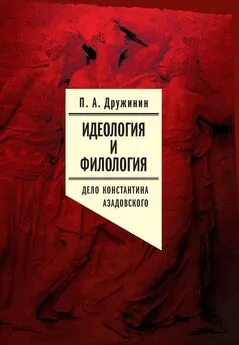


![Петр Дружинин - Загадка «Таблицы Менделеева» [История публикации открытия Д.И.Менделеевым Периодического закона]](/books/1063991/petr-druzhinin-zagadka-tablicy-mendeleeva-istori.webp)