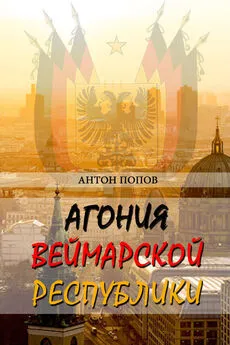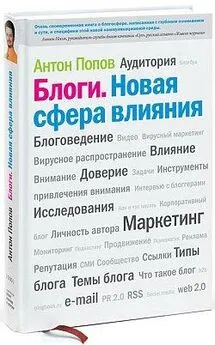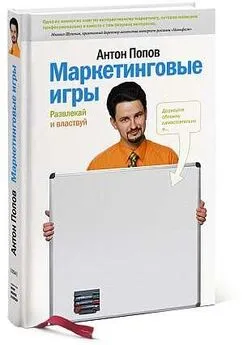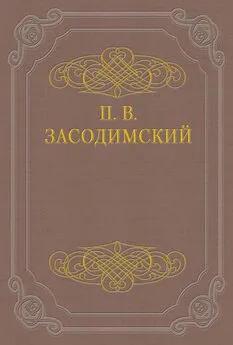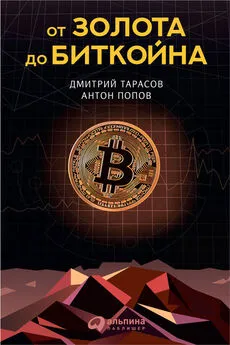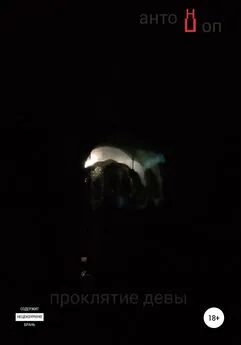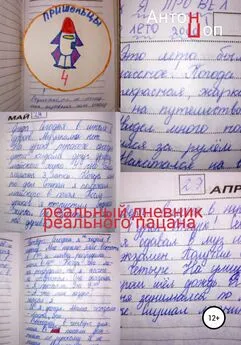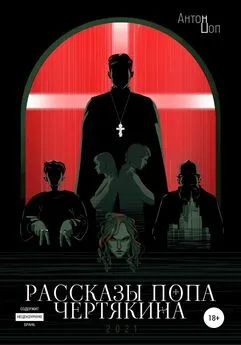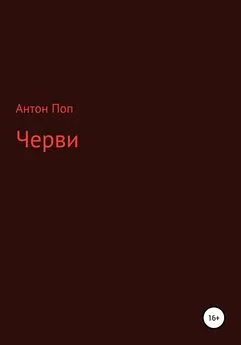Антон Попов - Агония Веймарской республики
- Название:Агония Веймарской республики
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Издать Книгу
- Год:неизвестен
- ISBN:978-1-386-96157-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Антон Попов - Агония Веймарской республики краткое содержание
Агония Веймарской республики - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Уже по тому первичному документу, который был подписан в штабном вагоне на станции Компьень 11 ноября 1918 года, можно было сделать вывод, что окончательные условия мира не принесут Германии ничего хорошего. Помимо чисто военных условий капитуляции (сдача германского флота, вывод войск с территории Франции и Бельгии, эвакуация Эльзаса и Лотарингии), условия перемирия содержали в себе также немедленную сдачу всех германских колоний и оккупацию Рейнской области войсками союзников. Но самым тяжелым для простых немцев был тот факт, что морская блокада Германии оставалась в силе вплоть до подписания окончательного мирного договора.
Союзники не особо утруждали себя каким-то согласованием условий мира с немцами – торг на переговорах шел в основном между разными участниками коалиции. Германия была просто поставлена перед фактом – хотите, принимайте как есть, хотите – нет. Никакого выбора, конечно же, не было. Часто говорят, что условия мира были «унизительными» для Германии. Возможно, но это было лишь полбеды – в конце концов, проигравшей стороне в мировой войне, в ходе которой широко применялось химическое оружие и случались репрессии против мирного населения (в гораздо меньшем масштабе, чем во Вторую мировую, конечно, но для тогдашней Европы и это было страшным шоком), трудно было ожидать, что ее ласково пожурят и отпустят восвояси. Справедливо или несправедливо на Германию возложили моральную ответственность за развязывание войны – вопрос сам по себе академический, думаю, что большинству простых немцев дела до него было немного. Хуже было другое. Условия Версальского мира были страшным ударом для германской экономики – для того, что от нее осталось после четырех лет войны.
Когда говорят о потере территорий (а Германия в соответствии с договором теряла примерно 1/7 своей площади и 1/10 населения), в первую очередь обычно думают о военно-политическом аспекте. Но экономический аспект был как минимум не менее важен. Германия теряла не только территории и население – она теряла их промышленность и экономический потенциал. К тому же, по условиям Версаля, Рейнская область подлежала оккупации Францией на 15 лет – с последующим проведением плебисцита на предмет дальнейшей судьбы территории. Рейнская область, на минутку, была важнейшим источником угля для германской промышленности, и французы получали эксклюзивные права на его добычу на весь срок оккупации. Верхняя Силезия, будущее которой тоже было поставлено в зависимость от результатов плебисцита, также была важным промышленным районом. Имело важнейший экономический аспект и сокращение численности германской армии – ведь оно в одночасье выбрасывало на германский рынок огромное количество свободных рабочих рук, которые было жизненно необходимо чем-то занять. Наконец, самое прямое и катастрофическое влияние имел тот факт, что по условиям мирного договора Германия должна была уплатить огромные репарации (и деньгами, и натурой), выплаты которых должны были растянуться на долгие, долгие годы.
Все эти условия – убийственные сами по себе, способные поколебать любую, даже самую здоровую экономику – упали не в вакуум, а на «плодородную почву» германской финансовой системы военного времени. Помните, это той самой, где правительство покрывало свои экстренные нужды, тупо печатая деньги. А экстренные нужды теперь в одночасье возникли такие, что те 164 млрд марок, в которые Рейху встала Великая война, выглядели сущей безделицей. Что ж, так и германский печатный станок еще ведь далеко не вышел на предел своей производственной мощности…
По состоянию на 1 августа 1914 года британский фунт стерлингов стоил, как мы помним, 20 германских марок (1 марка равнялась 1 шиллингу). В декабре 1918-го он стоил уже 43. На момент подписания Версальского мира в июне 1919-го – 60. К декабрю того же года – все 185. Но это было только начало.
Нам сейчас может показаться странным, но в тот момент почти никто в Германии не связывал стремительный рост цен в стране и утрату покупательной способности марки с денежной эмиссией. Сейчас для нас эта идея абсолютно естественна, но в начале ХХ века сама ситуация была внове и для широкой публики, и для ученых-экономистов. Новообретенная способность правительства почти произвольно увеличивать денежную массу в стране для покрытия своих нужд (ведь впервые такая методика была опробована каких-то пять лет назад!) многим профессиональным финансистам казалась гениальным открытием, блестящим достижением современной мысли, практически панацеей от всех проблем. И даже сознавая, что покупательная способность национальной валюты почему-то снижается, они яростно отстаивали убеждение, что их новая любимая игрушка, печатный станок, здесь ни при чем – нет-нет, негативные явления вызваны какими-то иными причинами.
Что же касается простых немцев, то они вообще долгое время не осознавали толком, что же именно происходит с их деньгами. Марка ведь остается маркой, не так ли? Если цены растут, значит – либо товаров по каким-то причинам завозят слишком мало, либо поставщики и злодеи-спекулянты завышают цены. Люди видели, как меняются публикуемые в газетах обменные курсы валют, но совершенно не понимали сути происходящего. Видя изменившийся курс, немцы говорили: «Доллар опять растет!» На самом деле, как раз доллар все это время оставался более-менее стабильным. Падала марка. Да и это падение долгое время было похоже не на обвал, а на качели – вверх-вниз. Так, например, в течение 1920 года курс британского фунта вырастал до 230 марок, потом падал до 150, потом вырастал снова. Эти колебания были связаны, в частности, с работой Комиссии по репарациям, созданной странами Антанты. Дело в том, что Комиссия ожесточенно спорила о единой фиксированной сумме выплат (будущий французский премьер-министр Пуанкаре даже подал из-за этих разногласий в отставку с поста председателя комиссии). В момент, когда показалось, что достигнуто приемлемое соглашение, курс марки резко подпрыгнул… но ожидания оказались ложными, а эффект недолговечным. Более того, неожиданный рост марки порядком напугал правительство республики, потому что сразу же вызвал в стране столь же резкий скачок безработицы – до 6 % летом 1920 года (инфляция и безработица обычно находятся в противофазе). В условиях, когда страна только что (как многим казалось) чудом удержалась на краю красной революции, когда забастовки еще следовали одна за другой, страх был вполне понятен. Отныне правительство поставило своей главной целью удержание безработицы на минимально возможном уровне любой ценой. Ценой оказалась смерть марки как платежного средства.
Чтобы покрыть ту сумму репарационных выплат, которая обсуждалась в июне 1920 года, Германии требовалось каким-то образом удвоить доходную часть своего бюджета – потому что этот бюджет едва сходился даже без учета репараций. Увеличить налоги вдвое? Практически никто (включая британского посланника лорда Д'Эбернона, призывавшего союзников к умеренности) не сомневался, что это повлечет немедленную революцию. Никто в Берлине не был готов идти на такой риск – даже текущий уровень налогообложения многим казался избыточно высоким, а собираемость этих налогов оставляла желать много лучшего. В финансовых кругах Германии царила атмосфера полного упадка и уныния. Банки начали массово выводить капиталы из страны, и никакие правительственные ограничения не в силах были остановить это бегство. Среди людей с деньгами ходило популярное высказывание, что «неуплата налогов отныне является не преступлением, а патриотическим долгом».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: