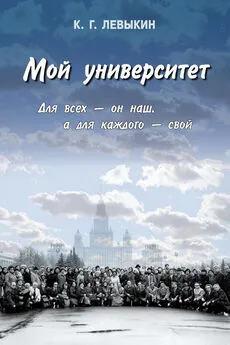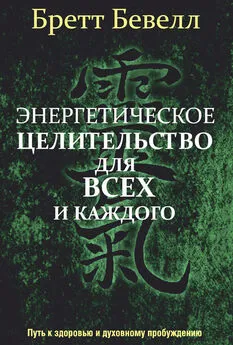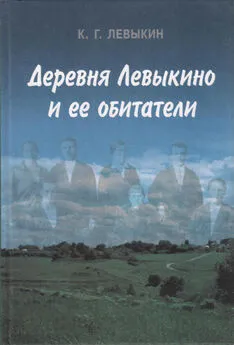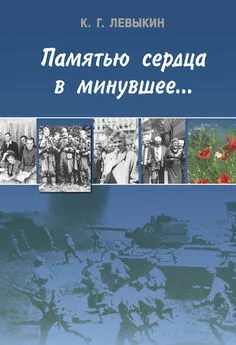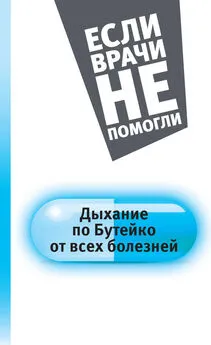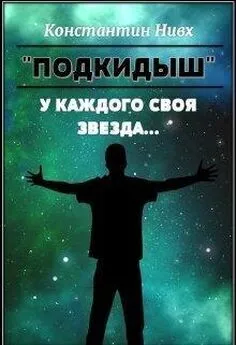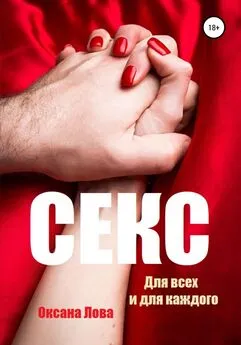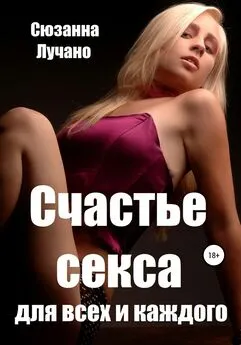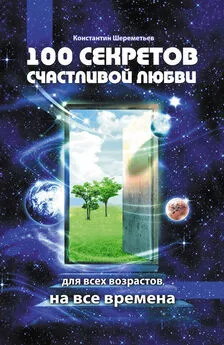Константин Левыкин - Мой университет: Для всех – он наш, а для каждого – свой
- Название:Мой университет: Для всех – он наш, а для каждого – свой
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Знак»
- Год:2006
- Город:Москва
- ISBN:5-9551-0127-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Константин Левыкин - Мой университет: Для всех – он наш, а для каждого – свой краткое содержание
Память сохранила ему живые картины послевоенной пятилетки студенческой жизни с друзьями-однокурсниками, годов учебы, учителей, профессоров и преподавателей, завершения учебы в аспирантуре, а затем его вхождения в научно-преподавательскую деятельность на историческом факультете. Большое место заняли в книге воспоминания об участии автора в общественной жизни университета в беспокойные десятилетия истории советского общества второй половины XX века.
Свою повесть заслуженный профессор Московского государственного университета Константин Григорьевич Левыкин завершает размышлениями о переменах в жизни Московского университета, произошедших в годы, предшествующие 250-летнему юбилею его истории, органичной частью которой он сам продолжает оставаться вот уже более пятидесяти лет.
Мой университет: Для всех – он наш, а для каждого – свой - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Еще до поступления в МГУ она вступила в комсомол и буквально с первых дней учебы стала активным членом комсомольской организации нашего курса и факультета. Училась она успешно. Ее характер располагал к общению и дружбе. Ее выбирали на общественные должности. И в своей комнате общежития на Стромынке она была равной среди равных. Подруги делились с ней всем чем могли. Она была желанной гостьей и в семьях подруг-москвичек. После окончания учебы Мария получила распределение на педагогическую работу в какой-то провинциальный вуз или техникум. Университетские подруги не теряли с ней связи. Она приезжала к ним в Москву и в другие города в отпускное, каникулярное время. Но пришло, наконец, время возвратиться Марии на родину, в Испанию. Мы провожали ее всей нашей бывшей группой. Помню, прощание было дома у Вали Соколовой. Нам жалко было расставаться с полюбившимся нам человеком, но мы также понимали ее радостное состояние перед долгожданной встречей с родными, которые тоже долго ждали этого же. Мы обещали друг другу помнить и не забывать того, что так тесно связало нас и дружбой, и общими идеалами, и взаимным пониманием.
Лет через десять после этого расставания вновь в доме Вали Соколовой почти в том же составе мы еще раз встретились с нашей испанской подругой – уже респектабельной испанской дамой. Наша Мария нашла себя и в той новой жизни, к встрече с которой готовилась с радостным волнением и беспокойством. Жизнь ее в Испании удалась и в личном, семейном плане. Мы все были рады всем ее успехам, а более того, были рады тому, что она не изменила нашему братству, той жизни, которую прожили вместе, нашему Московскому университету, в котором получила наше советское высшее образование, стромынскому студенческому общежитию, подругам-соседкам типовой восьмикоечной комнаты.
Рассказ об обитателях этой комнаты нельзя закончить без описания еще одной сходной судьбы студентки-иностранки – Майи Исаковой-Порович. Она была сербкой. Родители ее были народными героями Югославии и погибли от рук фашистских палачей. Через Красный Крест она была переправлена в нашу страну еще задолго до окончания Второй мировой войны и детство свое провела в интернате для детей революционеров-антифашистов в городе Иваново. Так же как и испанку Марию, мы не считали сербку Майю иностранкой. И в повседневном общежитейском обиходе, рядом со своими подругами в интернациональной восьмикоечной комнате она была равной со всеми, если, конечно, не считать особого внимания к ней как дочери героических родителей-коммунистов, отдавших свои жизни за свободную Югославию. Но в этом отношении и испанка, и сербка получали поровну. Различались подруги национальным темпераментом. Первая всегда была в движении, в состоянии какого-то воодушевленного порыва и возбуждения. Вспоминая ее сейчас, я почему-то представляю ее в искрометном испанском танце, с кастаньетами, хотя не помню ни одного случая, когда она действительно показала бы нам свое умение это делать. Свой испанский темперамент она обнаруживала в энергии уверенных жестов, убедительной речи, в неиссякаемом оптимизме, в искренности проявления дружеских чувств, в откровенности выражения своих принципов и взглядов на все происходящее в жизни нашего студенческого сообщества.
В отличие от подруги-испанки Майя Исакова-Порович (первая часть фамилии принадлежала ее матери) всегда выглядела строгой, сдержанной и в жестах, и в речи, и в поступках. Она всегда была грустна от того, наверное, что в жизни без казненных фашистами родителей и родственников она осталась совсем одна. А после 1948 года, когда произошел разрыв отношений между СССР и Югославией, она оказалась отверженной и от своей родины. В течение всех лет учебы и вплоть до восстановления отношений государств в 1956 году со своей родины она не получала ни материальной, ни моральной поддержки. Говорили, что у Иосипа Броз Тито к ее отцу и его бывшему соратнику сохранилась какая-то тайная неприязнь. Вот так дочь национальных героев Сербии и всей Югославии оказалась полной сиротой, но зато не в чужой для себя стране. Среди советских подруг и друзей она не разучилась улыбаться. Училась Майя тоже успешно. Каждое лето она ездила в археологические экспедиции на юг России и Украины на раскопки античных греческих и римских колоний и скифских курганов. По окончании Московского университета она выбрала себе распределение в аспирантуру Института археологии Академии наук Украины. Подруги не теряли с ней связи, и мы все знали, что наша однокурсница успешно защитила там кандидатскую диссертацию по античной археологии. А потом связь прервалась. Майя уехала в Югославию по личному приглашению самого Иосипа Броз Тито. Видимо, неудобно стало ему пред своей совестью и памятью народных героев – родителей Майи, имена которых в ту пору не стерлись не только из памяти соратников, но и из памяти всего югославского, и особенно сербского, народа. Она уехала из СССР, и вести от нее стали приходить все реже и реже. Мы были рады узнать, что наша сокурсница стала в своей стране авторитетным и известным ученым-археологом. Теперь в жизни ее согревала не только слава родителей, но и почет и уважение к ней как к крупному ученому.
Во время своих поездок в Югославию в качестве профессора МГУ и директора Исторического музея я предпринимал попытки встретиться со своей однокурсницей. Я просил моих коллег в Югославии устроить мне встречу с ней. Все они, оказалось, знали Майку как доброго и уважаемого человека. Все они обещали сообщить ей о моем приезде. Но всякий раз, смущаясь, они говорили мне или о том, что ее, к сожалению, нет в Белграде, или о том, что она занята на какой-то важной конференции, или еще о чем-то, что мешало нашей встрече. Признаюсь, меня это стало наводить на всякие нехорошие предположения. Я был уверен, что с их стороны было бы достаточно назвать ей мое имя, чтобы Майя сумела хотя бы позвонить мне. Я был уверен, что она искренне уважала меня как товарища в студенческие годы. И все же в свой последний приезд в Белград с выставкой так называемой евразийской археологической коллекции Исторического музея в 1990 году я решил попробовать еще раз связаться с Майей и попросил моего коллегу директора Народного музея Югославии Евто Евтовича пригласить Майю на вернисаж. На следующий день Евто сказал мне, что и в этот раз Майя была в отъезде, но что он сумел дозвониться до нее в каком-то городе, сообщив о моем приезде и желании встретиться. Он передал мне, что и она тоже хотела бы встретиться и непременно найдет меня, как только вернется в Белград через два-три дня. Встреча состоялась. Майя действительно позвонила мне в гостиницу и, как мне показалось, была обрадована возможностью повидаться.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: