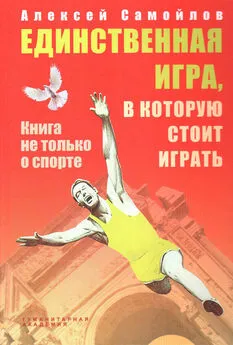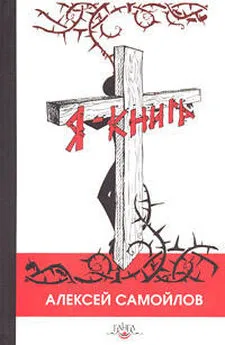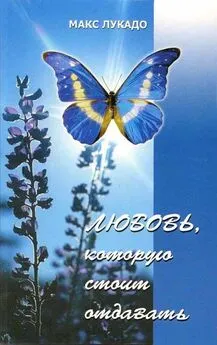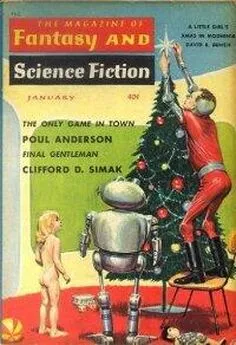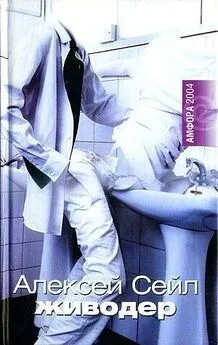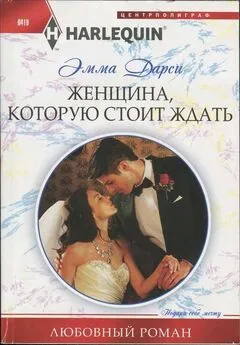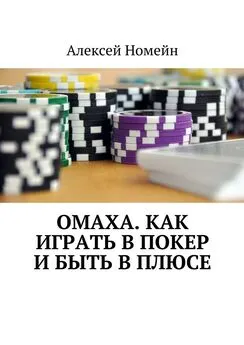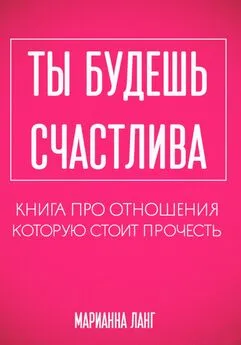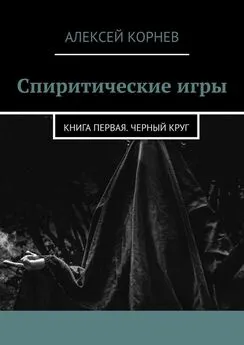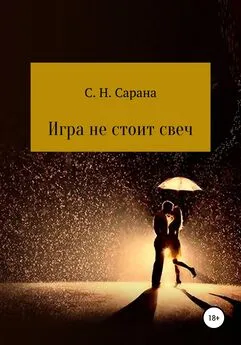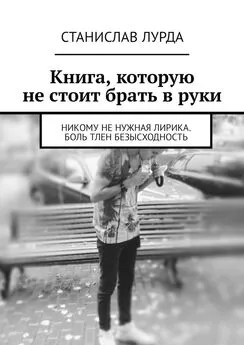Алексей Самойлов - Единственная игра, в которую стоит играть. Книга не только о спорте (сборник)
- Название:Единственная игра, в которую стоит играть. Книга не только о спорте (сборник)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Гуманитарная Академия
- Год:2014
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-93762-113-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алексей Самойлов - Единственная игра, в которую стоит играть. Книга не только о спорте (сборник) краткое содержание
Издание снабжено уникальными фотографиями из семейного архива автора.
Единственная игра, в которую стоит играть. Книга не только о спорте (сборник) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
При всей своей внешней флегматичности Борис – человек страстный. Мальчишкой он страстно любил петь, читать Пушкина, а больше всего гонять на «гагах», коньках, уцепившись крючком за борт проезжающей машины «на прицепе». Тут он был ловчее старшего брата, катался отменно и никогда не попадался дворникам, не одобрявшим опасных затей малолеток.
Влюбился в белую королеву
Другим увлечением был трамвай, катание на «колбасе». Оно появилось ранним летом 46‑го, когда братья после уроков заново знакомились с Ленинградом. Это требовало необычайной ловкости: надо было вовремя зацепиться на трамвайном буфере и умело с него спрыгнуть, когда застукает милиционер или кондуктор. На каникулах, освоив катание на «колбасе» в своем Смольнинском районе, братья дерзнули совершить дальнее путешествие через весь город и добрались до зеленых аллей Центрального парка культуры и отдыха на Кировских островах, на одной из которых было здание с большим черным конем на фасаде и надписью «Шахматы».
– Сильнее страсти я не знал, – сказал мне Борис в Киеве в сентябре 68‑го, в один из дней финального матча претендентов на звание чемпиона мира Спасский – Корчной, когда мы гуляли по парку Шевченко над днепровской кручей. – Это было какое-то наваждение, сумасшествие, ни о чем другом я и думать не мог, выклянчивал у матери пятнадцать копеек на пирожок и стакан газировки и на «колбасе» трамвая добирался с Суворовского до ЦПКиО, торчал до ночи в шахматном павильоне, глядел, как безумный, на доску и больше всего хотел украсть белую королеву, в которую влюбился.
Королеву не украл, зато после месячных гляделок (не только Боря разглядывал происходившее на стеклянных досках, но и Борю, как оказалось впоследствии, высмотрел завсегдатай павильона, его будущий тренер в городском дворце пионеров Владимир Григорьевич Зак) осмелел настолько, что предложил нескольким ребятам старше его сыграть в блиц. Все шесть партий Боря продул, вышел из павильона, сел на траву и заплакал.
Взбучка в павильоне стала его боевым крещением. Через день он предложил Жоре сгонять партийку и обыграл его! «Проиграв впервые, – пишет чемпион на полях старого очерка, – Жора очень расстроился и побил брата с иезуитским злорадством. Борис стерпел и в следующей партии снова одолел противника. Ради выигрыша он на все был готов».
Слава Богу, потом выяснилось, что не на всё, далеко не на всё готов он был ради победы. И тогда, когда его называли «шахматным Солженицыным» (в годы беспощадной идеологической травли автора «Архипелага ГУЛАГа» десятый шахматный чемпион пользовался любой возможностью, чтобы рассказать согражданам о взглядах писателя на историю России; встретившись с Александром Исаевичем, Спасский преподнес ему в дар шахматную книгу с надписью: «От благодарного бодателя дуба»), и тогда, когда ставший королем справедливой игры спас матч в Рейкьявике…
Первое слово, которое по складам прочитал пятилетний Боря, было – «правда». Вообще-то его надо написать с большой буквы: это было название главной газеты страны, на первой странице которой печатали сводки Совинформбюро, читая которые в сорок втором Екатерина Петровна тяжело вздыхала.
Провалился, как сквозь землю
Я читал в Астрахани сводки Совинформбюро в газетах и стихи: Пушкин, Лермонтов, Маяковский. В детсадовской самодеятельности декламировал стихи и плясал «Яблочко», мы выступали перед ранеными в госпиталях. В Петрозаводск вернулись в конце июля сорок четвертого. После шумной густонаселенной в войну Астрахани (эпидемия выкосила тысячи стариков и детей, и мой брат Миша умер в Астрахани) Петрозаводск был тихим и сиротливо просторным: его центр и набережная лежали в руинах. В октябре сорок четвертого пошел в школу. Весной сорок пятого читал по Карельскому радио лермонтовское «Бородино», сразу после Левитана: «…взяли Берлин!».
Тогда же в мою, в нашу мальчишескую жизнь вошли игры – волейбол, футбол, лапта, казаки-разбойники, хоккей с мячом, штандер. День-деньской мы гоняли во дворе и в Парке пионеров мяч, а ночами я читал – любимого моего Гоголя, Майн Рида, Купера, Диккенса и книжку о победоносном турне московского «Динамо» на родину футбола – «19:9».
Но вернемся в сорок первый. В Астрахань мы с бабушкой Татьяной Прохоровной и моим младшим братом Мишей поехали потому, что там жили старшая сестра моей мамы Нины Ивановны Малютиной тетя Шура и ее муж дядя Миша Щербаков. Мама, агроном по специальности, работавшая в сельхозотделе ЦК партии Карело-Финской ССР, оставалась на севере, в Беломорске, куда из захваченного врагом Петрозаводска перебрались партийные и правительственные учреждения республики.
Самый первый день войны – 22 июня сорок первого – в памяти не отложился. Знаю только, что на лето я был отправлен в детский оздоровительный лагерь под Вытегру, маленький городок на берегу одноименной речки, впадающей в Онежское озеро. Зато во всех деталях запомнил тот июльский день – война уже шла три недели – когда за мной приехала бабушка. Времени было в обрез, надо было грузиться на баржу, которую буксир должен был тащить через шлюзы Мариинской системы, потом по Рыбинскому водохранилищу, потом по Волге до самой Астрахани, а внук куда-то, как сквозь землю, провалился…
И действительно, провалился – в выгребную яму: уборная на двадцать «очков», выстроенная для воинской части, которую куда-то передислоцировали, не была рассчитана на маленьких червякообразных шкетов. Выловили меня из ямы, протянув длинный шест с черпаком, орудием производства местного золотаря, вытащили, хотели отмыть водой из шланга, я вырвался и с диким ревом помчался по дорожке лагеря, был схвачен за шею крепкой бабушкиной рукой, отмыт в речке, накормлен и водружен на баржу.
Сталинград Элема Климова
Много лет спустя, познакомившись в Москве, в доме космонавта Виталия Севастьянова, женатого на моей университетской приятельнице Але Бутусовой, с Элемом и Германом Климовыми, создателями лучшего отечественного фильма о спорте, я рассказал эту историю глубокой ночью Элему. Виталий, хозяин дома, и младший из братьев Климовых Герман после водки и Алькиных пельменей уже спали, а мы с Элемом, начав вспоминать войну, разволновались и прикончили огроменную бутыль французского шампанского, привезенного космонавтом с Корсики.
Элем смеялся: «Жаль, я не знал этой истории, когда снимал “Добро пожаловать…”, непременно вставил бы в картину». А уже под утро, когда мы решили соснуть прямо на ковре в гостиной, Элем, которому в первые дни войны, 9 июля, исполнилось восемь лет (Герман родился 9 мая 1941 года), рассказал: «Мне до сих пор снится, что летят немецкие самолеты и сбрасывают на нас бомбы. Мы жили далеко от центра Сталинграда, в поселке СталГРЭС, отец работал инженером на электростанции. Страха тогда не было – наверное, мы, пацаны, не очень понимали, что происходит. При налетах лезли на крышу и сбрасывали вниз зажигалки. Бомбы брызгали искрами и шипели, попадая в бочки с водой… Когда город горел во многих местах, нас отправили в эвакуацию, на Урал. Железнодорожный состав загрузили на паром, с середины реки я увидел, как горел город. Длинная стена огня. А вокруг вода вспухала от бомб и снарядов».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: