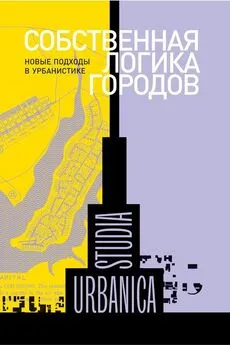Array Сборник статей - Моховая, 9-11. Судьбы, события, память
- Название:Моховая, 9-11. Судьбы, события, память
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Сабашниковы»
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978-5-8242-0119-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Array Сборник статей - Моховая, 9-11. Судьбы, события, память краткое содержание
Моховая, 9-11. Судьбы, события, память - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Этих наших преподавателей я считаю легендарными, а встречу с ними – большой удачей своей жизни.
Владимир Николаевич Турбин был мастером блистательных метафор. Многие его метафоры и парадоксальные формулировки на всю жизнь западали в сознание, странно будоражили, заставляли соглашаться или – вести полемику. Тайный смысл одного парадокса я, например, открываю для себя всю жизнь: он сказал мне о «мудрости посредственности». Тогда перевернулись все мои представления об оценке человека: то, что мы порою клеймим словом «посредственность», может оказаться на самом деле талантом жизни.
Недавно в беседе со мной наша однокурсница (а ныне – декан филологического факультета МГУ) Марина Ремнёва сказала мне о Турбине, что встреча с ним была самым ярким её впечатлением от филологического факультета: «Меня поразил его подход к литературе. Его взгляд на литературу произвел на меня такое впечатление, что я не решилась пойти в литературоведы, боясь быть недостойной его». Я спросила тогда, чем же он более всего запомнился? И она ответила: «Простотой. И неординарностью. Уже на первом занятии он задал нам вопрос: «Чем объединены «Повести Белкина»? Почему Пушкин соединил эти, в общем-то, пять разных сюжетов под единым названием?» Мы тогда долго думали над ответом, но так ничего и не придумали. А на следующем занятии он объяснил нам: «В каждой повести главную роль играет случайность, от случайности зависит всё». Я поняла тогда, что сама случайность может быть главным героем литературного произведения. Он всем нам тогда задал планку, он поставил нам, студентам, мышление, научил думать нетрафаретно».
В начале 60-х (благословенное время первой оттепели) вышла блестящая книжка В. Н. Турбина «Товарищ время и товарищ искусство». Мы все читали эту книгу, охотились за ней, дарили её друг другу. А Марина рассказала мне недавно, что она не только читала эту книгу, но и присутствовала на разбирательстве этого издания на филологическом факультете. «Я была тогда аспиранткой. Против Турбина выступали очень страшные люди – наши же преподаватели той поры. Хотелось зареветь от отчаяния. Почему-то вспомнились тогда строчки из стихов Маяковского: «Так, должно быть, жевал вымирающий ихтиозавр случайно попавшую в челюсти фиалку».
После выхода этой книги начались для Турбина долгие годы замалчивания, гонений и непечатания.
В 80-х годах я работала в редакции художественной литературы издательства «Московский рабочий» и пыталась утвердить в плане изданий новую книгу В.Н. Турбина. Меня вызвал директор и сказал: «Литературоведение? Зачем нам это, лапочка?» Незадолго до своей кончины, уже в период последних месяцев своей жизни, в перестроечные годы, Турбин снова принес нам заявку на книгу. Заявку утвердили, но нашего преподавателя уже не стало.
Он как-то мне сказал во времена глухого застоя: «Я ведь терпелив, 20 лет жду своего часа. Меня нигде не печатают, и терпение мое иссякает».
Он говорил, что считает себя биографом М. М. Бахтина и когда-нибудь издаст о нем книгу. Часто вспоминал, как пятнадцатилетним мальчиком работал почтовым служащим в почтовом вагоне, как тяжело и опасно было доставлять военные письма – порой под бомбежками. Он хотел когда-нибудь написать об этом. Но Турбина «замалчивали», он был неугоден.
Однако присущий ему юмор никогда не покидал его, и, следуя этой черте своего характера, Турбин вывесил на кухне портрет своего главного гонителя… среди связок лука, чеснока и бутылок с подсолнечным маслом.
Уже когда его не стало, на филологическом факультете вышло новое, расширенное издание книги нашего преподавателя «Пушкин, Гоголь, Лермонтов». А в журнале «Знамя» напечатали роман В.Н. Турбина «Я Воздвиг Памятник». Он работал над этим романом много лет и сказал как-то, что каждый филолог в душе хочет стать писателем. Я согласилась с ним, но и тогда, и сейчас считаю, что писать могут многие, но хорошо преподавать – это дарование редкостное.
Нас воспитывали по принципу «критика и самокритика – движущая сила нашего общества». Мы в этот принцип безусловно верили и на собраниях резко критиковали всех и вся, нисколько не сомневаясь в правоте коллективного мнения. Ведь как сказал поэт: «Единица! – Кому она нужна?! Голос единицы – тоньше писка. Кто его услышит? – Разве – жена. И то, если не на базаре, а близко». Критиковали, например, студентов за не «тот» внешний вид, подражание Западу, буржуазную моду, неучастие в общественной жизни ничуть не меньше, чем за неуспеваемость. Нас не учили, что всегда надо дать шанс провинившемуся, что не надо обрушивать на него грубый и беспощадный кулак общественного мнения. Дело ведь доходило и до исключения из университета.
Где же было таким гонимым искать защиты? Да всегда у профессора Бонди. Он безоговорочно давал всем прекрасные характеристики – ну, например, писал о том, что данный студент подает большие надежды и в будущем непременно проявит себя на поприще науки. Да мало ли чего еще. Ему, правда, в этих случаях начальство не верило, но – документ есть документ. А мы с удивлением обнаруживали: дашь человеку шанс, не заклюёшь – и у него может появиться возможность взять второе дыхание. В преподавательской доброжелательности тоже проявлялась незримая педагогика С.М. Бонди.
Объясняя мне материал на одной из консультаций по моей курсовой работе о пушкинском «Каменном госте», Сергей Михайлович упомянул про ОПОЛЗ, в состав которого он входил в 20-30-е годы, про гонения на это объединение, про особые приёмы, которыми пользовались критики-«разоблачители».
Так, в 1937 году один из них напечатал в центральной прессе разгромную статью, которая могла бы, наверное, дорого стоить Бонди: автор доносительства приписал Сергею Михайловичу слова, против которых он и возражал на своей лекции (или – в статье?). Л наивно спросила, почему Сергей Михайлович, известный и уважаемый пушкинист, не написал опровержения в центральную прессу. «Но ведь все обо всем знали. Зачем же отвечать?» – ответил он.
Эти его слова я тогда не поняла и подумала: «Ведь за правду надо бороться до конца. Как Павел Корчагин» (я выбрала Павла Корчагина, потому что в отношении Павлика Морозова у меня уже тогда были серьезные сомнения. Дело в том, что я боготворила своего отца и не представляла себе, как это – донести на него, на своего отца?). Но позже, когда я узнала, куда попадали люди, вступавшие в полемику с Центральной Прессой, ответ Сергея Михайловича стал мне вполне ясным.
Он страстно любил классическую музыку (его дочь и его жена – профессиональные музыканты), он любил мелодику русского языка, русское стихосложение, онегинскую строфу, пушкинские ямбы и хореи, открытия опоязовцев. Как, наверное, мучительно было для него слышать речь нашего поколения – людей, воспитанных на канцелярском («лагерном», как говорил Корней Чуковский) сленге.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: