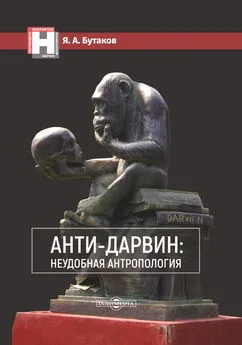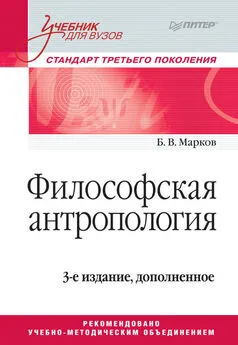Михаил Губогло - Антропология повседневности
- Название:Антропология повседневности
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2013
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9551-0695-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Губогло - Антропология повседневности краткое содержание
Повседневная жизнь открыта и неисчерпаема. В ней сохраняется культурное наследие народа и ведется диалог с вызовами современности. В этом убеждает исследование гагаузской художественной литературы, которая подпитывалась как реалиями традиционной культуры народа, так и великими достижениями русской и культур народов Советского Союза.
В книге показано современное состояние гагаузской школы изобразительного искусства. Время и векторы его становления и вызревания, как и литературы, основаны на изображении и осмыслении повседневности. Они совпали по фазе с той эпохой этнополитической жизни гагаузского народа, в которой была создана государственность. Отраженная в живописи проблематика связана скорее с изображением повседневной, чем политической жизни.
Антропология повседневности - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Уже через два-три года, например, популярность портного из числа жителей г. Чадыр-Лунги – Капанжи Дмитрия, у которого шили себе наряды жены Каргапольских начальников и привилегированные дамы из среды местной интеллигенции, перешагнула границы района.
Значительная часть техники, сосредоточенной в районной машинно-тракторной станции, оказалась в руках мужчин-спецпереселенцев. Накануне реорганизации МТС в РТС (ремонтно-техническую станцию) в 1958 г. в соответствии с решениями Февральского пленума ЦК КПСС и Мартовской сессии Верховного Совета СССР, в каждом селе Каргапольского района, где проживали спецпереселенцы, было по 2–3 человека, работавших на тракторах или принимающих участие в их ремонте.
В селе Тамакулье один из жителей села Трашполи Чадыр-Лунгского района был приставлен к колхозным лошадям и числился заведующим конюховки. В его обязанности, кроме должности сторожа, входили обеспечение лошадей водой и кормом, сохранение в целостности зимнего и летнего сельскохозяйственного инвентаря, упряжи и исполнение ряда других нехитрых обязанностей практически из репертуара завхоза. Но все эти хозяйственные обязанности были не самыми главными. Дело в том, что в культурной жизни села конюховка играла важную роль. Поэтому завхоз конюховки одновременно был уполномочен высоким доверием, как человек, обеспечивающий нормальное ее функционирование в качестве сельского клуба.
Итак, что такое «конюховка» в послевоенной курганской деревне? Ни в Большой советской энциклопедии, ни в Словаре русского языка слова «конюховка» нет. Вероятно, этот сельский термин этимологически каким-то образом восходит к слову «конюшни». Так назывался немаловажный придворный чин в XV – начале XVII вв., в ведении которого находились табуны лошадей, придворные конюхи, имения и строения, отведенные для содержания царских табунов. В отличие от конюшни, помещения для содержания лошадей, конюховка, с ее вечным запахом дегтя и острым запахом конского пота, входила в систему колхозного конного двора и вместе с примыкающими хозяйственными пристройками служила помещением для отдыха конюхов, ездовых и дежурных по конному двору, а также для хранения всяческого инвентаря.
В зимний период, в пору особо суровых холодов, в конюховке собирались жители деревни обменяться новостями. Иногда по праздникам, а порой и по будням жарко натопленная конюховка превращалась в «красный уголок» для взрослых мужиков и взрослеющих юношей, тех, кого не привлекали культурные услуги, предлагаемые убогой сельской избой-читальней. Иногда «на огонек» конюховки приходили и вдовушки с кувшинчиком браги из числа наиболее решительных и истосковавшихся по живому общению.
Судя по воспоминаниям моих земляков, выпускников Каргапольской средней школы, проживающих ныне в Москве и Подмосковье, такие конюховки, в которых происходили развлекательные «тусовки», особенно в длинные зимние вечера, имелись в каждой деревне.

Через 55 лет на месте бывшей «конюховки» я обнаружил заросший травой пустырь, кучу досок и рассказ соседа по депортационному времени Д. Сосновских (на фото) о том, как развалился колхоз, а вместе с ним приказала долго жить и конюховка, как образ «культурного очага» поствоенной повседневности. Фото М. Н. Губогло
Итак, между приглашением, впервые услышанным в детстве: «Айда по горох», и призывами в юности: «Айда в конюховку» лежит важная полоса жизненного цикла и этнокультурной социализации, наполненная диалогом, имевшем место в семейной ситуации и общением во внесемейной среде, содержанием которой выступила дискуссия на стыке двух соционормативных культур. Принципы и ритуалы одной из них практиковались дома на гагаузском языке в кругу семейных отношений, другая – манила к себе и доминировала на русском языке за пределами семейного быта, в повседневных общениях с внешней средой, включая сферу школьного образования и сферу сельской жизни. В итоге формировались двуязычие и двукулыурие, в которых сибирское трудолюбие и навыки борьбы с природой во имя выживания сочетались с энергией романтизма, доставшейся в наследство от ярких запахов и красок Буджакской степи.
У спецпереселенцев, «переваривших» депортационную реальность, и вернувшихся в Гагаузию из депортации, культура и менталитет представляют собой такую «социальную память» и такую форму «повседневного бытия», в которых остались следы экстремальной адаптации и хозяйственно-бытовой и социально-психологический опыт, накопленный там, в Сибири, за годы депортации.
Важное место в мировоззрении этих людей, с которыми довелось познакомиться летом 2007–2008 гг., занимает повышенное чувство самоуважения за то, что они сумели выжить в невероятно трудных условиях и сумели перенести все тяготы наказанного времени. Они, подобно своим предкам, тяжелым трудом осваивающим Буджакские степи, как правило, не пали духом, а, напротив, вернувшись домой, на родину, и не получив конфискованную или разворованную в 1949 г. недвижимость, с новой силой и новыми умениями приступили уже к третьему обустройству своей жизни. Экстремальные условия выживания и последующая благополучная адаптация в иносоциальную и в иноэтничную среду закалили их характер, добавили социальной «упругости» и понимание личной ответственности.
Личность выжившего спецпереселенца, вернувшегося домой на родину и не получившего доступа к родному очагу, заслуживает серьезного внимания и постановки широких исследовательских задач. На передний план тут выдвигаются вопросы соотношения инерции его традиционной культуры и энергии новообретенных навыков. Насколько сильна была роль социо норматив ной культуры в менталитете и в повседневной жизни этих людей, можно судить по тому, насколько глубоко они привержены двум фундаментальным ценностям соционормативной культуры – трудолюбию и гостеприимству.
Локомотивом жизненной мотивации, которую можно было бы по внешним признакам назвать «достижительной мотивацией», составляла такая позиция жизнедеятельности многих из этих людей, когда главным стержнем становилось не желание стать советским человеком в соответствии с «моральным кодексом», а прагматический императив – выжить сегодня и обеспечить выживание свое и своих детей завтра.
Переходя от изучения групповой к индивидуальной и личностной идентичности, необходимо выразить убеждение в том, что этнолог должен заглянуть в душу того, чью идентичность он изучает. Но чтобы сделать первый, едва ли не самый трудный шаг, надо начинать с себя. Стать этнологом самого себя.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
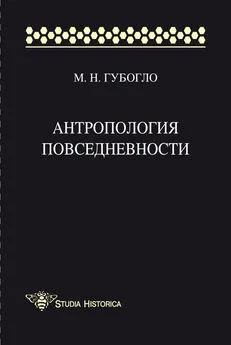
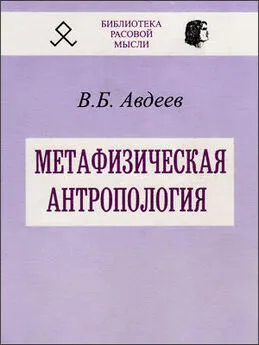
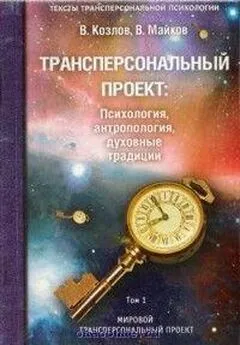

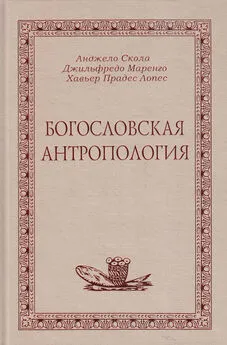
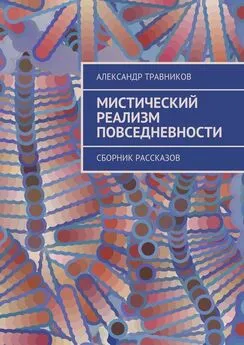
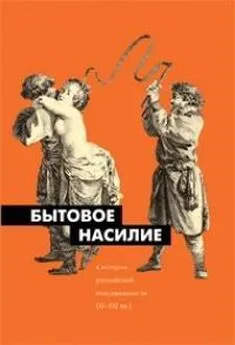
![Дэниел Юм - Искусство добывания огня [Для тех, кто предпочитает красоту природы городской повседневности]](/books/1097016/deniel-yum-iskusstvo-dobyvaniya-ognya-dlya-teh-kto-p.webp)