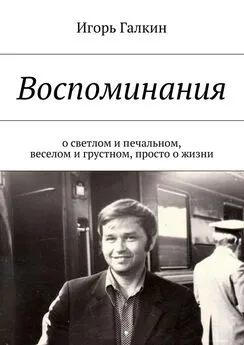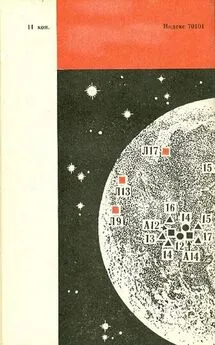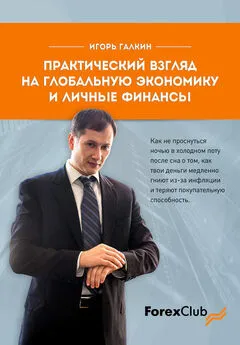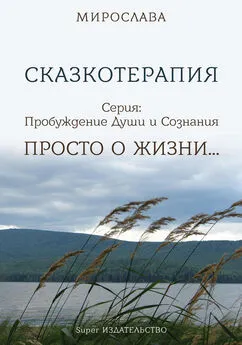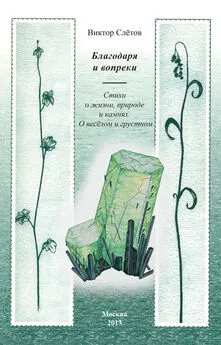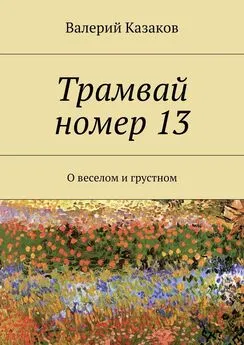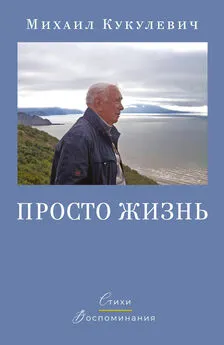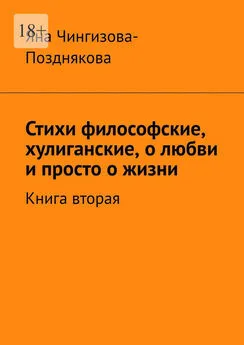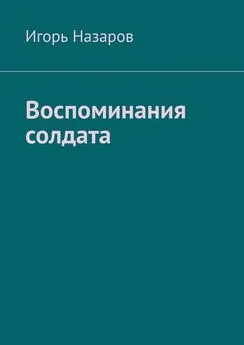Игорь Галкин - Воспоминания. о светлом и печальном, веселом и грустном, просто о жизни
- Название:Воспоминания. о светлом и печальном, веселом и грустном, просто о жизни
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Ридеро»
- Год:неизвестен
- ISBN:9785447431952
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Игорь Галкин - Воспоминания. о светлом и печальном, веселом и грустном, просто о жизни краткое содержание
Воспоминания. о светлом и печальном, веселом и грустном, просто о жизни - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Управлять лошадьми на жнейке было тяжело, требовалось следить, чтобы не наехать на крупный камень или другое препятствие и в то же время вести жнейку прямо, ровно. Это было задачей того, кто сидел «на выносе», то есть на третьей лошади, возглавлявшей, упряжку. Эту роль выполнял терпеливый и послушный Клубок, а на нем восседал наш Боря. Со вспыльчивым Валентином никто из деревенских подростков не мог работать, никто не мог ему уноровить, всех прогонял при первом же неудачном заезде. И нашему Боре доставалось, в том числе и длинной плетью, но он был терпелив и вспыльчивый Валентин соглашался работать только с ним.
Боря и его строгий и капризный начальник уезжали на жатву рано. Мама после работы на скотном дворе возвращалась домой, готовила завтрак. Обычно это были полевахи – толстые ржаные сочни, наполненные сверху картофельным пюре, сдобренном топленым маслом. Уложив в зобеньку (корзинка из плетеной бересты) полеваху и бутылку молока, я отправлялся на поле. Жнецы, позавтракав, снова брались за работу, а я старался до обеда заняться чем-нибудь поблизости, чтобы на обед поехать вместе с Борей и Валентином. Тут-то Клубок был моей лошадкой, терпеливо слушался меня и даже усталый, не отказывался немножко пробежать мягкой не тряской рысью. Я же водил его на водопой, подкидывал лишнее беремя хорошей травки.
Второе условие взросления – научиться плавать в Вели, ловить рыбу на крючок. Тут моим учителем был Валя. Сам он готов был любое свободное время проводить с удочкой. Долго я помнил своего первого ельца, а еще дольше хариуса. Теперь помню только первую щуку, пойманную на спиннинг дяди Ивана.
Зимой мы с ребятами соревновались в смелости, когда катались с горок на лыжах. У нас были довольно высокие и крутые горки. Тут самым смелым, впрочем, как и в езде на лошадях, был Витя Кузькин. Парень физически крепкий и до отчаяния смелый. Из одногодков я мог претендовать лишь на вторую роль в снежных и конных забавах. Самую же крутую горку у деревни одолел наш Боря.
За этими увлекательными занятиями и пришла пора учебы. Читать и худо-бедно писать я все же научился до школы. Два брата и сестра, хочешь не хочешь, вовлекали меня в свой учебный процесс. Я разглядывал картинки в их учебниках, надоедал с вопросами, и они волей-неволей объясняли мне буквы, учили читать по слогам. Счет до ста тоже давался без большого труда. От них я усвоил, как определять время по часам, различать дни недели. Они же заставляли меня участвовать в написании писем папе на фронт. Я обычно прикладывал к тетрадному листочку растопыренную ладонь и обводил каждый палец карандашом. Чтобы папа знал, как быстро растет моя рука и я сам. И приписывал в письме свои несколько строк печатными буквами.
Букваря у нас не было, попыток читать что-то из учебников у меня не появлялось. Сказок у нас никто в слух не читал и не рассказывал, чтобы я мог слушать их. Конечно, сказку по щучьему велению я знал, но никогда не мечтал ездить на печи. А вот, катаясь на санках, часто воображал, что еду на грузовике, который впервые увидел в возрасте пяти-шести лет. Помню, как кто-то из друзей Вали пересказывал сказку о маленьком мальчике, которого гуси проносили на себе в небесах из одного места в другое. Я, естественно, прикидывал все услышанное на себе и понял, что мальчик-то был маленьким уродцем, которого может запросто возить на себе гусь. С нормальным мальчиком такое не могло произойти, а сказка про уродца мне была неприятна. Во мне просыпался реалист и скептик. В дальнейшем мне также не пришлась по душе и фантастика, кроме той, что содержала в себе черты возможных технических достижений. Я прочитал позднее все попадавшиеся мне книги Жуль Верна, «Туманность Андромеды» Ефремова, «Гиперболойд инженера Гарина» А. Толстого, многие рассказы о технике будущего. Но мне претили фантазии вроде мыслящей головы, отрезанной от тела.
Газета «Ленинский пуд»
Что-то мне было, видимо, написано на роду, если меня, маленького, заинтересовала районная газета «Ленинский путь». Происхождение книги меня не интересовало – это было непостижимое и далекое-далекое от нас. А газета-то делается в 50 километрах от нашей деревни, где бывают многие взрослые жители Филимоновки, и мне, реалисту, было любопытно ее понять. Уж не удержусь и выражу сейчас свое убеждение: первое, чем должен обладать журналист, это любопытство. Второе: желание рассказать другим о том, что интересное увидел или узнал сам. Я говорю о том своем состоянии, когда я только учился в домашних условиях читать и писать. С названием газеты «Ленинский путь» произошел, правда, курьез. Как ни странно, но слово «ленинский» я усвоил без усилий. Кто не знал Ленина? Все знали. Сложнее было со вторым словом «путь». Я не знал значения мягкого знака, поэтому перевел это слово с письменного на устный как «пут». А «пут» для меня был ничем иным, как «пудом», в котором измеряется вес зерна или муки в мешке. Так я долго считал, что название газеты означает полновесный ленинский пуд.
Начальные классы
Примерно с таким умственным багажом пошел я в первый класс. Походил несколько недель, продемонстрировал свое чтение по слогам, счет. А тут началась осенняя распутица. Кожаной обуви у меня не было. Зимой папа свалял валенки, но зимней одежды как не было, так и не появилось. А там весенняя распутица. Фаня меня подтягивала в учебе, как могла. Читать я стал свободнее, руку поставил для письма. Чуть подсохло весной, домашние снарядили меня в школу. К моему удивлению, я почти не отстал. Меня перевели во второй класс.
Второй учебный год для меня был не легче в бытовом плане. А опыт первого класса только расхолаживал. Я ходил на занятия по возможности. Папа и мама меня жалели и придерживали дома. Таблица умножения и скорость чтения меня подкосили окончательно. Я показал самое плохое чтение на скорость в соревновании, устроенном учительницей. Вообще к книгам у меня в начальной школе не появилось никакого интереса. К арифметике я тоже был равнодушен. Тогдашняя школа не побуждала деревенских ребят ни к учебе, ни к увлечениям. Отбывали ее как неизбежную повинность. А ведь были определенные задатки у всех у нас – у Вали, у Бори, у Фани. Борис, например, со своими четырьмя классами прекрасно усваивал позднее сложные вопросы по устройству автомобилей, его электрической части, всяких сходов, развалов, требовавших уже более глубоких знаний. Он научился понимать принципы работы насосов, и паровоза, когда стал помощником машиниста узкоколейного паровичка. Еще позже он хорошо ориентировался в устройстве судов, когда ходил в Баренцевом море на маленьком тральщике. Но к самому процессу учебы в начальной школе его не заинтересовали, не разбудили природное любопытство. Сейчас, конечно, легко сказать: некому, некогда. А кто объяснит, как сочетались в России высокий интеллект ученых, начиная с Ломоносова, и кончая уже работавшим в то время Курчатовым, с примитивным крестьянским хозяйствованием? Так что определяет сознание: наука или быт? И кто манипулировал этими понятиями при строительстве социализма?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: