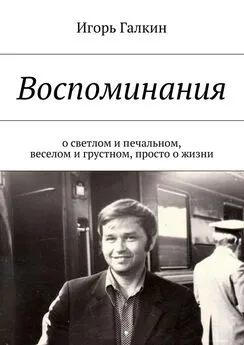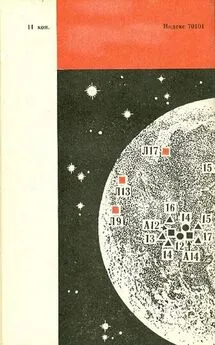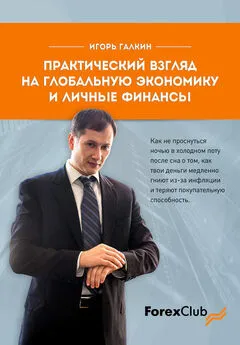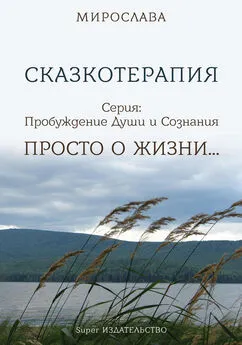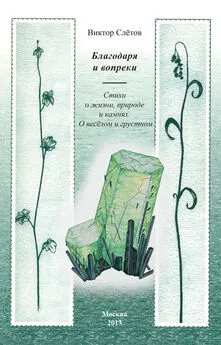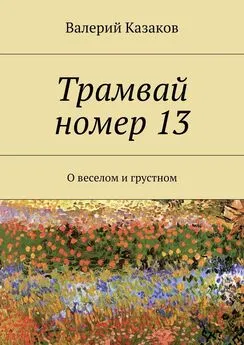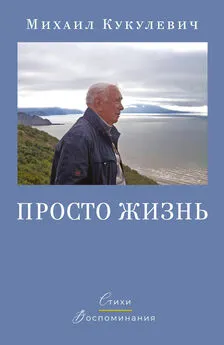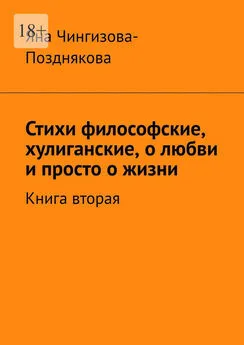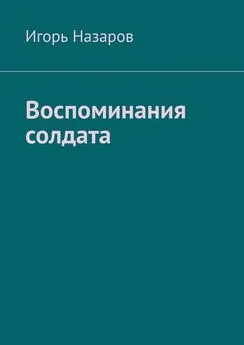Игорь Галкин - Воспоминания. о светлом и печальном, веселом и грустном, просто о жизни
- Название:Воспоминания. о светлом и печальном, веселом и грустном, просто о жизни
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Ридеро»
- Год:неизвестен
- ISBN:9785447431952
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Игорь Галкин - Воспоминания. о светлом и печальном, веселом и грустном, просто о жизни краткое содержание
Воспоминания. о светлом и печальном, веселом и грустном, просто о жизни - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Бабушка Александра Арсанофьевна Галкина (Рудакова)
Бабушка Александра Арсанофьевна унаследовала от отца долгожительство, прожила 93 года. Когда я в свои 63 года поехал в невропатологический центр при Боткинской больнице провериться по поводу своих нервов и психологического дискомфорта, невропатолог, прищурившись, изучал меня и расспрашивал не столько о моих болезнях, сколько о болезнях отца, матери, дедушек и бабушек. В конце сказал: «Не забивайте себе голову страхами. Судя по всему, вы многое взяли у той бабушки, которая прожила больше 90 лет. У вас хорошая родословная. Вот и живите на здоровье.
Бабушка Александра Арсанофьевна пережила мужа где-то лет на тридцать с лишним. Но так и не увидела в глаза паровоза, ни разу не бывала в поликлинике или больнице. Ходить ей было вообще трудно, она, полусогнутая, худая – кожа да кости, – все дни лета проводила в огороде, зимой пряла и вязала. Держала мелкую живность. С ней жили то дочь Авдотья с дочерьми, то сын Иван с семьей. Когда те получали квартиры в поселке, она оставалась одна в своем большом высоком доме, который нелегко было отапливать холодными зимами. Папа и его брат Иван, конечно, помогали, но бабушка до последних дней оставалась самодостаточной в своей неприхотливой жизни.
Полуслепая, без зубов, неграмотная, не бывавшая даже в молодости далее церкви, что находилась в деревне Усть-Подюга в 6 километрах, она сохраняла непонятную любознательность. Когда я после работы в газете и поступления в МГУ приехал на летние каникулы, мои однокашники ни разу не полюбопытствовали о характере моей профессии, о которой они, конечно, ничего не знали. Меня это даже немного задевало, хотелось все-таки похвастать мало знакомой специальностью. А вот бабушка обрадовалась моему приходу, спросила, о чем говорят в Москве про пенсии, потом поинтересовалась:
– Я услышала, Госенька, что ты газету пишешь, дак, все и ждала, штобы рассказал, как ее пишут-то? Неужто каждую буковку выводят? Ведь мелкие-то больно, да и написаны угловато. И ведь не одну, а несколько делают. Расскажи, кормилец.
Я ей рассказывал, она качала головой, дивясь человеческой изобретательности.
Неторопливость Александры Арсанофьевны вошла в семейные предания. До колхозов все семьи чуть свет шли на сенокос каждая на свою пожню. Он появлялась к обеду с едой, увязанной в узелок. Правда, и вечером она могла косить до заката, удивлялась, как время летит.
Дед Павел Макарович Галкин
Муж Александры Арсанофьевны и наш дедушка – Павел Маркович Галкин, был прямой противоположностью бабушке. Павел Маркович слыл завзятым лошадником, любил быструю, бесшабашную езду. У него всегда стояло во дворе несколько лошадей и несколько коров. По классификации времен колхозного строительства их двор относился к середнякам. Для раскулачивания не было причин, все в семье были в рабочей поре, со стороны никого на работу не нанимали.
Особенно любил Павел Маркович извоз. До революции и в 20-е годы не существовало ответвления на Котлас от железной дороги, ведущей из Москвы на Архангельск. На северо-восток нужно было перебрасывать продовольственные и промышленные товары, обратно – пушнину и все, чем был северный край богат. Вот тогда Павел Маркович и запрягал по сильной и выносливой лошади в двое розвальней (сани с крепкими березовыми разводами по бокам, чтобы воз не заваливался на сторону) и отправлялся на пару месяцев, а то и на всю зиму в дорогу, которая начиналась в Коноше и заканчивалась в Котласе, а то и дальше.
Судя по всему, он хорошо зарабатывал на извозе, и лошади у него всегда были ухожены, упитаны, сбруя добротная. Только вот домой привозил немного и частенько возвращался с наживы (так называли тогда поездки на заработки) под большим хмелем и домашние удивлялись, как он в таком виде не замерз, нашел дорогу домой. А он, протрезвев, подсмеивался, мол, надо иметь таких лошадей, как у него, чтобы всегда, куда надо привезли. Никогда не жалел о потраченных деньгах, да и не хвастался, как погулял на воле.
Возможно, оставалось у северных людей, кроме типично русских еще и северные черты – безбоязненность глухих заснеженных дорог, авантюризм, чтобы бросаться в одиночку в небезопасный извоз, устраиваться на ночевки, где придется, не страшиться лихих людей в чужом краю. Те, кто только думал о больших заработках, о накоплении копеечки к копеечке, не шли на подобные риски и не сорили деньгами на разгул в незнакомой среде. В этом осталось что-то от новгородских ушкуйников, тех сорви-голов, которые не всегда были в ладах с общими порядками и частенько сбивались в ватаги, чтобы проникать все дальше на северо-восток, славившийся пушниной, дичью, рыбой и глухими местами, где можно было жить по-своему, без надзора и указчиков.
У Александры Арсанофьевны и Павла Марковича Галкиных было два сына – мой отец Александр и Иван, а также две дочери – Авдотья и Зинаида.
Дети Павла Макаровича и Александры Арсанофьевны
Папа был самым многодетным. У дяди Ивана и его жены – тети Шуры – двое – сын Анатолий и дочь Тамара, которые обзавелись благополучными семьями. Дети разъехались по дальним сторонам. Дядя Иван прошел отечественную войну, дослужился до лейтенанта. Был не раз ранен и контужен. Последствием контузии осталась глухота. Сам он говорил тихо, внимательно смотрел при этом на собеседника, видимо, пытаясь по губам определить слова собеседника, и часто кивал в знак того, что понимает. Но мы не раз убеждались, что понимал не все, и старались говорить громко на ухо. Чтобы побольше зарабатывать, дядя Иван, не имевший хорошей рабочей специальности, шел на работу, которая лучше оплачивалась. Сначала это был горячий цех – в котельной, потом цех по производству так называемой стекловаты – минерального утеплителя для деревянных блоков, из которых возводили невысокие дома. Он недолго пережил папу, умершего 24 марта 1979 года. Больше всех плакал не по-мужски у его гроба. Они всегда хорошо относились друг к другу, никогда не ссорились. Жена дяди Вани – тетя Шура верховодила им, частенько ругала, пользуясь несколько скрипучим громким голосом, а он всем видом показывал, что не слышит ее.
Авдотье повезло меньше – она одна воспитывала двух дочерей – Галю и Нину. Муж ее погиб на войне. Повзрослев, дочери уехали в какой-то целинный совхоз и пригласили туда мать. В дальнейшем должны были оказаться на территории Казахстана. Об их дальнейшей судьбе не известно.
Зина еще до войны вышла замуж за парня из соседней деревни Плоское. Детей у них не было. Хорошего житья тоже. Степан по болезни не служил в армии. Он любил похвастать своей родней, особенно братом, который в его глазах был большим руководителем – председателем сельсовета.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: