Юрий Толстой - Из пережитого. 4-е издание
- Название:Из пережитого. 4-е издание
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Проспект (без drm)
- Год:2015
- ISBN:9785392186211
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Толстой - Из пережитого. 4-е издание краткое содержание
Из пережитого. 4-е издание - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Соблюдая хронологическую последовательность, должен сказать несколько слов о судьбе Юрика Брусилова, двоюродного брата моей матери. Во время войны он стал георгиевским кавалером. Жизнь его оборвалась трагически: в городе Глухове, в одной из центральных губерний, он был расстрелян матросами. Подчиненные ему солдаты, спасая свою шкуру, не защитили своего командира. У нас дома хранится несколько фотографий красавца офицера с Георгиевским крестом, одна из них – с дарственной надписью дяде Лене, моему деду. Незадолго до своей гибели он был помолвлен. Невеста его оказалась за границей, где у нее от другого человека родился сын, которого она назвала Юрием. В честь и память Юрика Брусилова Юрием (Георгием) нарекли и меня, чем горжусь. Когда я вспоминаю о судьбе пленных офицеров в «Оптимистической трагедии», расстрелянных по приказу Вожака, мысленно воссоздаю в памяти образ моего дяди.
Ну, а как же сказалась революция на семье Введенских-Толстых? Частично я этот вопрос уже затрагивал. Прадед успел познакомиться с Чека, после чего эмигрировал, взяв с собой одну из своих внучек – Анастасию. Бабушка, спасаясь от голода в Петрограде, жила в Лодейном Поле, на севере Петроградской губернии. Там вторая ее дочь, Татьяна, влюбилась в сына тамошнего подрядчика, который стал впоследствии ее мужем.
Мой отец к началу революции был правоведом. Училище правоведения, как и следовало ожидать, разогнали. Отец, которому было пятнадцать лет, остался не у дел. Чтобы прокормиться, а заодно и получить рабочий стаж, он стал рабочим на Волховстрое. В дальнейшем это помогло ему поступить в Политехнический институт.
А теперь пришло самое время сказать о моем отношении к Октябрьской революции, ее причинах и следствиях. Разумеется, неверно изображать жизнь в дореволюционной России как сплошную идиллию. Было и социальное расслоение, и безземелье в центральных губерниях, и скученность в рабочих кварталах, и дискриминация инородцев, и черта оседлости, и многое другое, что не делает чести моему Отечеству. Тем не менее, к началу Первой мировой войны страна находилась на подъеме и входила если не в пятерку, то по крайней мере в десятку наиболее развитых стран мира. Столыпинская реформа при всей ее половинчатости дала мощный импульс развитию сельского хозяйства, повышению его доходности и товарности. Внешнеполитическое положение страны, оправившейся от позора Русско-японской войны, было достаточно прочным. Я уже не говорю о том, что Россия имела интеллигенцию, которой, пожалуй, не располагала ни одна страна в мире. Не случайно после революции многие деятели науки, литературы и искусства, вынужденные уехать за границу, стали во главе научных школ, новых направлений в искусстве, Нобелевскими лауреатами. Трагедия страны состояла в том, что во главе ее был безвольный монарх, человек интеллигентный, образованный, добрый, но постоянно находившийся под чьим-то влиянием (причем далеко не всегда благотворным и бескорыстным). Трагедия усугублялась неизлечимой болезнью наследника, чем ловко пользовались проходимцы и фанатики типа Распутина. Все это привело к тому, что двор находился в состоянии глубокого разложения. Добавьте к этому постоянные конфликты с Государственной думой, в которой кадеты, несомненно, вобравшие в себя все лучшее в русском политическом движении, так и не сумели добиться действенного влияния на политику. Невольно приходят на память слова Керенского: «Без Распутина не было бы никакого Ленина».
Россия не хотела войны и всячески стремилась ее избежать. В этом были единодушны и Алиса (Александра Федоровна), и Распутин, и влиятельные государственные деятели, и торгово-промышленные круги. К тому же и баланс сил складывался явно в пользу стран Антанты. Казалось, войну удастся предотвратить. Однако роковое убийство в Сараево спутало все карты. События вышли из-под контроля, и Первая мировая война началась. Большевики воспользовались этим для захвата власти, взяв на вооружение лозунг превращения войны народов в гражданскую войну. С начала войны Ленин и его ближайшее окружение не без основания сочли, что война предоставляет им, пожалуй, единственный шанс, чтобы опрокинуть существующий строй. Исходя из этого они делали все, чтобы подорвать военно-промышленный потенциал своей страны. Пораженческая пропаганда на фронте и разложение армии, саботаж на военных заводах, подстрекательства к забастовкам – все это звенья одной цепи, которая была призвана парализовать способность нашего Отечества к сопротивлению германскому нашествию. Революция в своей стране рассматривалась ими как начало вселенского пожара, который охватит весь мир. В результате на смену власти эксплуататоров придет власть трудящихся и человечество обретет свое подлинное освобождение. Этим замыслам вряд ли суждено было бы осуществиться, если бы во главе революционного движения в России не стоял Ленин. Едва ли не все современники Ленина, соприкасавшиеся с ним, как его соратники, так и враги, отмечают, что это был фанатик, который совершение революции поставил целью своей жизни. Нагнетанию этого фанатизма, по-видимому, способствовали два обстоятельства: не знающее границ честолюбие и властолюбие и гибель любимого брата, желание отомстить за него, обязательно оставить свой след в истории, причем чем глубже, тем лучше. Добавьте при этом постоянную зависимость от меценатов, которые оказывали партии финансовую поддержку и на средства которых Ильич и Крупская жили (втайне он всех их презирал, хотя и приходилось делать вид, что воспринимает их всерьез, в частности Горького). Силы подтачивала неизлечимая болезнь, то ли наследственная, то ли благоприобретенная. Напомню, что и Илья Николаевич, и все дети Ульяновых, кроме Ольги, скончавшейся в юности, умерли от паралича головного мозга. Вспоминаю свое посещение квартиры Ленина в Кремле. В комнате Марии Ильиничны (Маняши) я обратил внимание на фотографию какого-то мужика с ярко выраженными чертами дегенерата, стоявшую, помнится, на комоде. Я спросил экскурсовода (в комнате нас было двое), кто это. Она ответила: это Владимир Ильич во время болезни, но мы не разрешаем переснимать эту фотографию.
Годы эмиграции для такой деятельной натуры, как Ленин, были мучительными. Постоянная борьба за партийную кассу, бесконечные диспуты за кружкой пива, которые зачастую заканчивались потасовками, неудовлетворенность в личной жизни – не этого ожидал будущий вождь мирового пролетариата от своей более чем двадцатилетней деятельности на политическом поприще. Нередко его охватывал пессимизм, прогнозы бывали довольно мрачными. Например, в докладе о революции 1905 года, сделанном незадолго до Февральской революции, он прямо говорил, что нынешнему поколению революционеров, к которому причислял и себя, не суждено дожить до победы грядущей пролетарской революции. И вдруг в Швейцарию приходит известие о Февральской революции и отречении государя от престола. Эта весть пронзает Ильича, как электрическим током. Он боится упустить свой шанс и предпринимает отчаянные усилия, чтобы с группой своих единомышленников пробраться в Россию. При посредстве социал-демократов (главным образом, из тех стран, которые находились с Россией в состоянии войны) удается достигнуть договоренности с германским правительством о проезде группы так называемых интернационалистов через территорию Германии в особом вагоне, который впоследствии получил название запломбированного. В ходе переговоров одним из решающих доводов в пользу того, чтобы разрешить такой проезд, послужило то, что Ильич и К° выступают за поражение России в войне, считая именно Россию цитаделью реакции.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
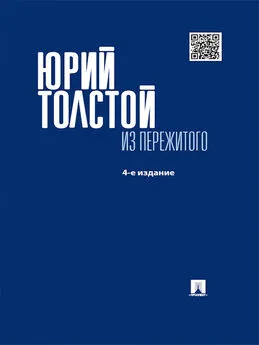

![Юрий Сотник - «Архимед» Вовки Грушина [Издание 1947 г.]](/books/481456/yurij-sotnik-arhimed-vovki-grushina-izdanie-1947.webp)
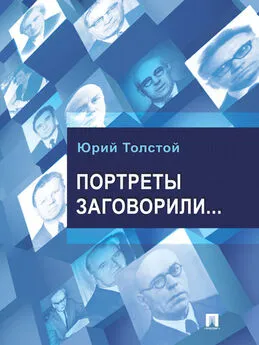
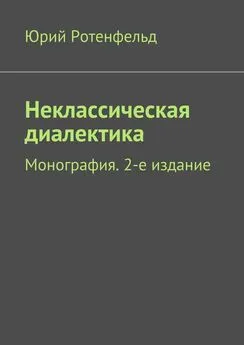
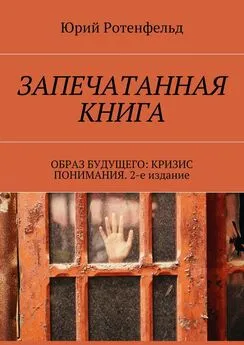
![Юрий Фадеев - Записки «русского азиата». Русские в Туркестане и в постсоветской России [Издание второе, измененное, добавленное]](/books/1069324/yurij-fadeev-zapiski-russkogo-aziata-russkie-v-t.webp)
![Юрий Никитин - Порвали парус [электронное издание] [litres]](/books/1070860/yurij-nikitin-porvali-parus-elektronnoe-izdanie.webp)
![Юрий Глазков - Черное безмолвие [сборник, 2-е издание]](/books/1073868/yurij-glazkov-chernoe-bezmolvie-sbornik-2.webp)
![Лев Толстой - Булька [авторский сборник; издание 3-е]](/books/1143317/lev-tolstoj-bulka-avtorskij-sbornik-izdanie-3.webp)
