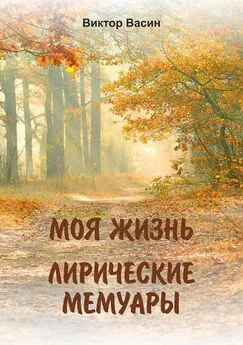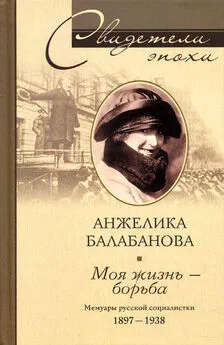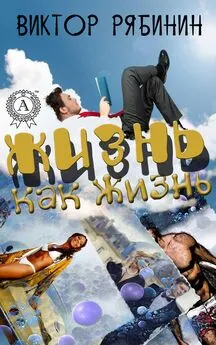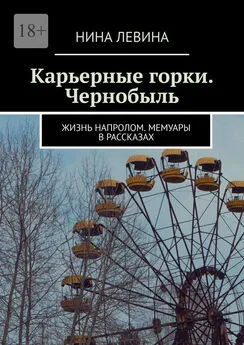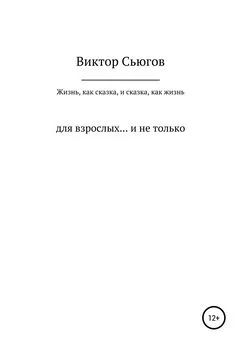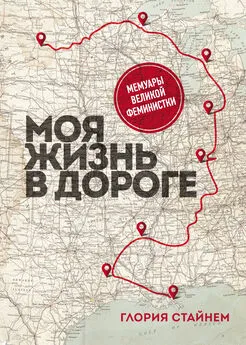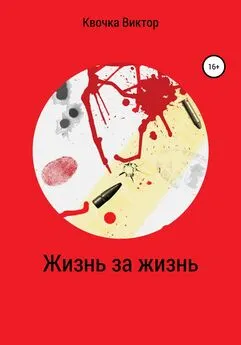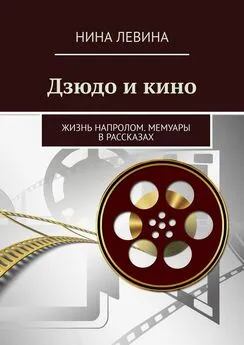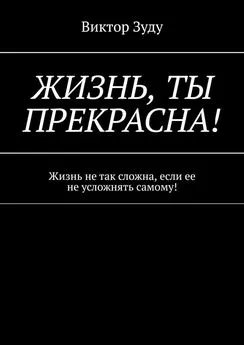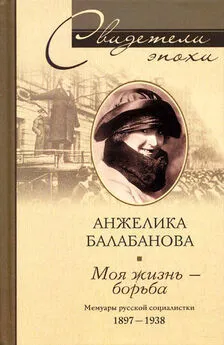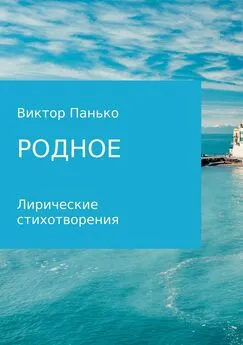Виктор Васин - Моя жизнь. Лирические мемуары
- Название:Моя жизнь. Лирические мемуары
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент ИП Думчева
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Васин - Моя жизнь. Лирические мемуары краткое содержание
Моя жизнь. Лирические мемуары - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Власть, хоть и пестовала (по нисходящей) «классово зрелые» слои социума, но, проявляя полит-прозорливость, присматривалась и к более молодой поросли, – к сыновьям и дочерям стареющего пролетариата, предоставляя им – выходцам из рабоче-крестьянских семей, многочисленные образовательные привилегии. Дабы обеспечить низовой поросли (едва освоившей ликбез) конкурсный гандикап, власть намеренно опускала шлагбаум запрета… перед той порослью, чья социальная принадлежность вызывала у неё оскомину и классовую неприязнь. Особое содействие (и в этом тоже был резон) оказывалось членам новоиспечённого Союза молодёжи, и подклассу «сочувствующих». И, надо признать, подобная практика дала ожидаемые результаты: среда вчерашних «ликбезников», получившая (по отмашке свыше) доступ к широкому (на тот период) образованию, выдала-таки на-гора когорту грандов, чей след в отечественной (советской) истории – заметен и по сегодня.
Утверждать, что приглашая в храмы наук вчерашних малограмотных, но классово близких «высшему принципу» юнцов, власть надеялась получить… новых Ломоносовых и Менделеевых – было бы наивно; но что именно в те времена (у оставшегося без элиты государства) появились – и нужные инженеры, и нужные управленцы, и нужные гуманитарии – факт (при всех недомолвках) более чем неоспоримый.
Пришли таланты, не очень крупные, но надёжные и прагматичные. Что до Ломоносовых, – корифеи, а тем паче – уникумы, приходят (на мой взгляд) в наш мир вовсе не по зову попавших впросак властей, а лишь по зову самой жизни, – жизни, угодившей в нравственный, демографический, либо в ресурсный тупик.
Такой жизни (как, впрочем, и формации, испохабившей её), дабы не кануть в Лету, безусловно, и всегда спешно, требуются корреляторы; и они приходят – уникумы, корифеи, реформаторы.
Любая власть, даже если она до мозга костей – власть низов, в своих экономических начинаниях предпочитает иметь дело с крепким, хорошо образованным середняком: учителем, эскулапом, вездесущим (но думающим!) бюрократом, и кормильцем всего и вся – хитроумным крестьянином.
Худо-бедно, но управлять страной, держа массы на коротком поводке – можно. Можно, через кнут и волюнтаризм – править, полагая, что местечковая номенклатура в точности исполнит указующие директивы, и коммунизм, в ипостаси его первой фазы, будет построен. Но вот беда: образовательный ценз руководящей братии на местах – в те годы никогда не простирался далее партийных, комсомольских, либо профсоюзных курсов.
А с таким скарбом – да в калачный ряд?..
Отказаться от услуг убогой местечковой номенклатуры, освобождённой от любых обязанностей, кроме обязанности «взять под козырёк», – верховная власть, конечно, не могла. Но и полагаться во всём только на верноподданнические качества и классовую зрелость масс – было опасно. Власть понимала, что без мастеровитых профи, без наличия асов – на исполнительском уровне, и без хорошо обученной «прослойки» – на управленческом, – построить задуманное невозможно. А задумывался (согласно провозглашённой доктрине) социализм, – нечто, бродившее? доселе по Европе, и забредшее (дабы обрести плоть и лицо) в нашу многострадальную страну. Строя сие химеричное нечто! – (принудительно, второпях, и на авось), власть упражнялась в радикализме.
Отвергалась конкуренция. Вводилось соцсоревнование. Торжествовали два принципа, – справедливый:
«от каждого – по способностям, каждому – по труду», и – устрашающий: «кто не работает, тот не ест».
Вроде бы здраво: уравнительно и равноусреднённо. И отвечало духу коллективизма. Но – не грело, не влекло, не устрашало…
И труд был разным, и способности. К тому же, объявлялось, что стоимости у такого труда нет, а, посему – сия обязательная деятельность не может быть адекватно оплачена. За труд, именуемый общественным, полагалось… вознаграждение.
Насаждалась всеобщая занятость. Платили «прожиточные» гроши за сам приход на работу, за часы пребывания «при деле», хотя делом, как таковым, подобное времяпрепровождение, конечно же, (в силу своей ничтожности) – быть не могло.
Преследовалось тунеядство. Осуждались – дармовщинка и паразитизм. Высмеивалось постыдное иждивенчество. И, тем не менее, все вышеперечисленные пороки – существовали и продолжали плодиться.
Но ел вдоволь не тот, кто работал. А тот, кто работал, ел плохо, потому что делал плохой, никому ненужный продукт. Принципы оказались пропагандистским блефом. Страна катилась в экономическую пропасть.
Запахло гарью. Назревал бунт… Нужен был компромисс, и он был найден, и что-то? и в самом деле было построено; но соответствовало ли – это, построенное «что-то!» – задуманному?
Конечно, в мозги, тем паче – руководящие, не заглянешь. И всё же любопытно? – имея в активе всего лишь умение читать и писать, а, посему, в пассиве – весьма однобокое развитие, – верила ли сама, сидящая в партийных креслах руководящая братия, в химеру построения коммунизма в отдельно взятой стране; верила ли в утопию, в которой будет торжествовать великий принцип:
«От каждого – по способностям, каждому – по потребностям».
Возьму на себя смелость утверждать: верхушка – нет, но – средняя, мелкая, местечковая – пожалуй, да.
Или, всё же – за право фанфаронствовать, за тёплый клозет, и увесистый спецпаёк – делала вид, что верит?..
Ну да бог с ней, с номенклатурой (местечковой и средней руки), и с её умением делать вид, будто она верит в то, о чём болтает, пишет, и вещает. В самом деле, можно ли взаправду верить в утопию, пусть и спущенную сверху, но отдающую блефом, и явно рождённую незрелым, а, возможно, и больным воображением?
И разве можно всерьёз воспринимать сказку… про манну небесную, которую завтра будут распределять по потребности?
Ох уж, эти потребности! – знать бы, в каких объёмах мыслятся сии дармовые коврижки завтрашнему сибариту…
Народ, если он талантлив и энергичен, при любых раскладах – из ничего способен сотворить конфетку. Русский – тем паче!
Да, конфетка может выглядеть непривлекательно внешне, а то и вовсе быть завёрнутой в грязно-серый ширпотребовский фантик. Но если учесть – из чего и как она была сделана, простить невзрачность конфетке – потребитель (а я подразумеваю советского) будет просто обязан. Когда же конфетку перенесут на конвейер, и станут делать в количестве, достаточном для всех, – сетование на её невзрачность и китчевую эстетику, и вовсе покажется излишней привередливостью, филистерским брюзжанием, и интеллигентским моветоном…
Труд, наречённый свободным, труд якобы на самого себя, а не на кровососа-толстосума; труд на государство, именуемое диктатурой низов, труд в «коллективе», несмотря на его частую ненужность, второсортность, низкую производительность и пресловутую плановость, – всё же давал (глупо замалчивать очевидность) довольно неплохие количественные плоды.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: