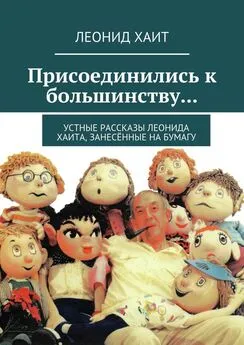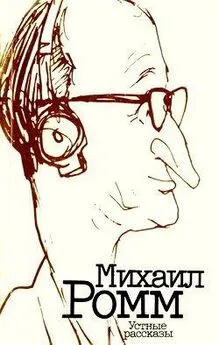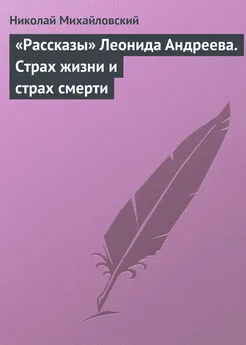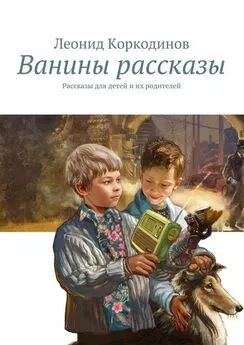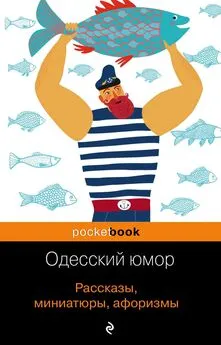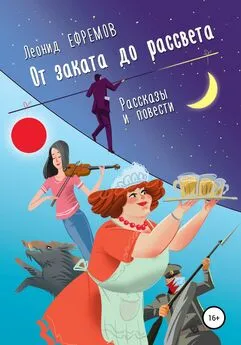Леонид Хаит - Присоединились к большинству… Устные рассказы Леонида Хаита, занесённые на бумагу
- Название:Присоединились к большинству… Устные рассказы Леонида Хаита, занесённые на бумагу
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Ридеро
- Год:неизвестен
- ISBN:9785448356100
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Леонид Хаит - Присоединились к большинству… Устные рассказы Леонида Хаита, занесённые на бумагу краткое содержание
Присоединились к большинству… Устные рассказы Леонида Хаита, занесённые на бумагу - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В 1966 году я чуть было не переехал в столицу. Дело было так.
В Москве, в Театре Ленинского комсомола главным режиссёром был Анатолий Васильевич Эфрос. Каждый спектакль, как говорится, был настоящим театральным событием. Я специально ездил на его премьеры. Некоторые спектакли, скажем «Снимается кино» Радзинского, смотрел множество раз. Обычно, когда режиссёр смотрит спектакль другого режиссёра, даже самого блестящего, он примеряет свои возможности и решает для себя вопрос: может ли он так или нет. В случае с Эфросом я всегда отвечал: нет, не могу. Я был по-настоящему влюблён в него, боготворил его, хоть в собственном скромном творчестве не проявлял влечения к психологическому театру.
До «Ленкома» Эфрос работал в Центральном детском театре, сначала под началом М. О. Кнебель, он был её учеником, потом самостоятельно. Некоторые спектакли репертуара у нас совпадали, хоть принципиально отличались друг от друга. У меня тотальностью, у него глубоким психологизмом. Так, и у него и у меня шли поставленные нами «Они и мы» Долиной, «Судебная хроника» Волчек.
В 1966 году у меня следовала одна премьера за другой, и я долго не был в Москве. Доходили слухи о том, что московские власти разделались с Эфросом, убрали его из театра и что он с группой своих, наиболее близких ему актёров перешёл в Театр на Малой Бронной, очередным режиссёром к Дунаеву.
В спектаклях Эфроса не было откровенной антисоветчины. Но советским чиновникам просто была не по душе подчёркнутая независимая позиция главного режиссёра, то, что он не был похож на других. В его спектаклях они усматривали вольнодумство, что-то опасное, подрывающее устои. И с Эфросом рассчитались. Правда, своим спектаклем «Три сестры» на Малой Бронной Эфрос показал, что приспосабливаться не собирается. Но это другая история – про Эфроса, а не про меня.
Московский драматург Исидор Владимирович Шток испытывал ко мне стойкую симпатию, которая несколько превосходила обычное обхаживание драматургом режиссёра. Я действительно поставил несколько его пьес, сыграл несколько главных ролей в спектаклях по его произведениям. Каждый мой визит к нему Шток обставлял шумным приёмом. Его жена, артистка театра «Ромэн», настоящая цыганка, потчевала меня всевозможными разносолами. На подписываемых своих книгах Шток употреблял высокий стиль: «моему благодетелю», «лучшему исполнителю», «самому талантливому» и т. д. Особое впечатление на него произвела моя «Божественная комедия» в Харьковском ТЮЗе. Я многое изменил внутри самой пьесы, многократно приезжая к нему для согласования новых, придуманных сцен. Шток очень радовался моим находкам, предложениям, с явным удовольствием дописывал и переписывал целые сцены.
В 1966 году, уж не помню, в каком месяце, он позвонил мне в Харьков и сказал, что в театре «Ленком» в связи с уходом Эфроса пустует место главного режиссёра. И что он настоятельно рекомендовал меня на эту должность своему ближайшему другу Михаилу Михайловичу Мариенгофу, директору театра, и что последний готов со мной встретиться, познакомиться, всё обсудить, дать мне постановку в театре с последующим утверждением в должности, если постановка будет иметь успех, в котором он, Шток, не сомневается. А Мариенгоф человек очень влиятельный, и все преграды, которые может на моем пути выстроить министерство культуры и ЦК партии, он сумеет обойти. Одним словом, я должен немедленно вылететь в Москву завтра же, потому что он уже пригласил Мариенгофа к себе в гости для встречи со мной.
Ужин он закатил отменный, и мы до глубокой ночи обсуждали с директором возможные пьесы для моего будущего спектакля. На завтра договорились продолжить наше общение уже в Театре Ленинского комсомола.
Ночью я не сомкнул глаз, многократно проигрывая разные ситуации предстоящей встречи с труппой театра, перелистывал в уме разные пьесы. Несмотря на то, что Эфрос забрал с собой лучших актёров театра, в «Ленкоме» остались Гиацинтова, Вовси, Пелевин, молодой Караченцов, Корецкий и много других отличных актёров.
Последние несколько лет я ездил на занятия лаборатории, которой руководила Мария Осиповна Кнебель, легенда русского театра. Она училась у Михаила Чехова, была актрисой и режиссёром-постановщиком во МХАТе времён Станиславского и Немировича-Данченко, а в описываемое время была профессором, заведующей кафедрой режиссуры Государственного института театрального искусства. Микроскопически маленькая женщина, она являла собой гиганта театральной педагогики. Попасть на её лекции и занятия было заветной мечтой любого деятеля театра. Её личный режиссёрский путь после кончины Немировича был связан многолетней дружбой с Алексеем Поповым. До последнего дня своей жизни она нежно дружила с Павлом Марковым. Всё это легендарные имена русского театра ХХ века.
Я семь лет посещал занятия Марии Осиповны. Принимал участие в её чествовании, когда ей исполнилось 70 лет, потом 75, а потом и 85. Был автором капустника в её честь. На моих полках стоят все её книги, а фотографии её всегда перед моими глазами.
Дочка знаменитого издателя Иосифа Кнебеля, Мария Иосифовна родилась ещё в XIX веке. Свои детские сказки ей читал сам Лев Толстой. Её студенты, путая даты, расспрашивали её о деятелях минувшего века так, как будто Мария Осиповна могла их всех знать.
– Я с Гоголем не дружила, – смеялась студенческой наивности Мария Осиповна.
Её педагогическим коньком был метод действенного анализа пьесы и роли, в который окончательно поверил Станиславский в последние годы своей жизни. Этим методом она и заразила всех нас, участников ее лаборатории – главных режиссёров театров юных зрителей.
Авторитет Марии Осиповны был для нас непререкаемым. Так что утром, ещё до своего визита в «Ленком», я поехал к ней домой советоваться.
Выслушав мой рассказ, она всплеснула руками:
– Лёня, вы сошли с ума! Как вы можете даже в мыслях соглашаться на это предложение?! Занять Толино место! Это же безнравственно.
– Мария Осиповна! Но ведь его всё равно займут.
– Да, займут. Но ни один мой ученик не может себя замарать согласием работать с этими бандитами, так поступившими с Толей. Вот это же предлагали Адолику Шапиро. И он категорически отказался.
В общем, вечером, не заходя в «Ленком», я уехал в Харьков. И уже оттуда позвонил в Москву и сказал, что, к сожалению, принять их предложение не могу. Я буквально «слышал», как отвисла челюсть у Мариенгофа.
Кстати, он, я этого не знал, был отпетой сволочью, стукачом и мерзавцем. Но эти подробности о нём я узнал много позднее.
Так что тогда, в 1966 году, мой переезд не состоялся.
Но Шток продолжал свою деятельность, и в 1968 году, когда Образцов принял к постановке новую пьесу Штока «Ноев Ковчег», вместе с Поюровским (тогдашним завлитом театра) добился моего окончательного переезда в Москву.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: