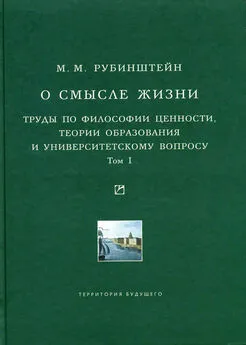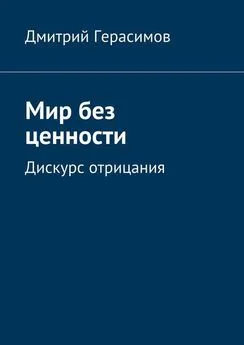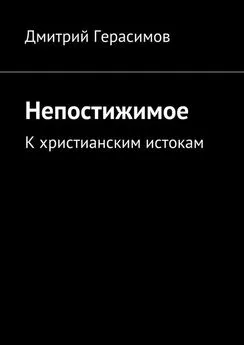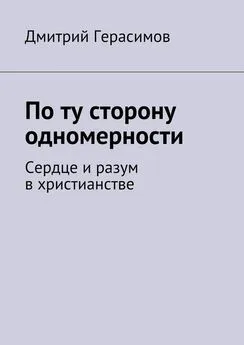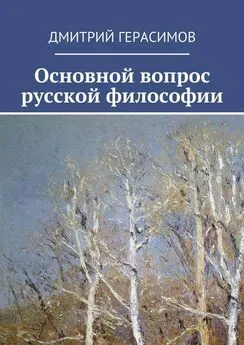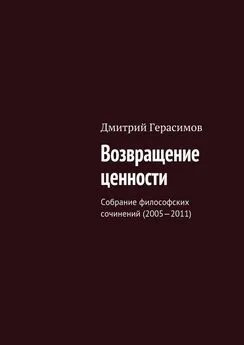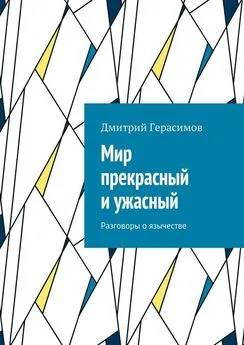Дмитрий Герасимов - Рождение ценности. Очерк философии ценности
- Название:Рождение ценности. Очерк философии ценности
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Ридеро
- Год:неизвестен
- ISBN:9785448356445
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Герасимов - Рождение ценности. Очерк философии ценности краткое содержание
Рождение ценности. Очерк философии ценности - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
1.2. Формальные определения ценности
В случае признания «двуначалия» философии, вытекающего из необходимости гносеологического различения ценности и смысла, их предметное отличие тем самым указывает на то, что ценность и постигаться должна и действительно постигается каким-то особым – отличным от познания смыслов – способом. Иначе говоря, сама специфика ценностного сознания («ценности вообще», а не тех или иных ценностей) во многом обусловливает собой особый – только ей присущий – характер постижения ценностей, неразрывно связанный с их непосредственным переживанием.
Познание ценности, в отличие от познания смысла (или идеи), есть опытное познание – такова исходная аксиома, с которой приходится иметь дело, приступая к исследованию природы ценности. Это значит, что абсолютно неустранимой предпосылкой любых теоретических построений в области ценности является опыт , и в частности, личный опыт исследователя, который реализуется через способность к непосредственному переживанию вещей или мира в целом. При этом под «опытом» здесь и далее разумеется не «чувственный опыт», а более конкретное понятие – само переживание, неопосредованное мышлением. Переживание – это то, что стоит за любыми чувственными восприятиями и отнюдь не сводится к ним. Ведь их можно переживать, а можно и не переживать! Вот почему только переживание есть то, что есть «опыт» в собственном смысле слова (нечто, отличное от мышления и несводимое к нему). Иначе говоря, переживание как опыт не есть нечто «сверхчувственное» (понятие о котором заключало бы в себе противоречие), а есть то общее, что есть во всяком опыте от самого опыта . И таким «общим», которое присутствует во всяком чувственном восприятии (или ощущении), является не «идея» этого опыта (или то, что мы думаем о нем), а непосредственное переживание, которое и делает опыт опытом.
К примеру, нельзя, основываясь лишь на рассуждении или чувствах, но не имея «сердца», постичь красоту чувственно воспринимаемых вещей или мира в целом, ибо познание красоты как ценности предполагает непосредственное переживание чувственно воспринимаемых вещей. Точно так же нельзя, основываясь лишь на логике рассудка (или разума) и не имея развитой способности ценить, постичь доброту человека или благость мира в целом как соответствующие ценности. Как и в первом случае, процесс постижения здесь неотделим от процесса восприятия. Что, между прочим, объясняет, почему ценности не могут быть «общими» (и, в частности, «общечеловеческими»), вообще – априорными, или внеопытными, а могут быть только совместными (!), апостериорными. Иными словами, в отличие от мышления, которое может состояться и вне опыта, способность производить ценность всегда предполагает опыт, что довольно часто приводит к смешению ценностного акта с перцепциями.
Ценность действительно всегда реабилитирует чувственность перед разумом. Но сама способность ценить не является каким-либо чувством, стоящим в ряду других чувств – зрения, осязания, слуха и т. д. По отношению к любому конкретному чувству «ценение» (от «ценить», а не от «оценивать»), или «переживание», выступает как основа, как общее условие, как то, что входит в состав любого из чувств или делает его возможным – усиливает его либо ослабляет. Можно сравнить способность к «ценению» с мембраной, от колебаний которой зависит диапазон возможных чувственных восприятий, даже таких разнонаправленно-интенциональных чувств, как любовь и ненависть, состав которых в равной мере образует переживание – переживание любви (как и ненависти) не является постоянной величиной, но может усиливаться и ослабляться. Критерием ценности здесь выступают не сами акты интенции, а непосредственность переживания вещей или отдельных реальностей мира. Так, даже в случае исторического постижения мира или человека, познание, опирающееся лишь на систему мысли и игнорирующее конкретный жизненный опыт, с точки зрения философии ценности, оказывается неполным и априори ущербным, исключающим необходимость непосредственного восприятия истории в конкретном опыте человеческой жизни («участников истории»).
Но то же самое можно сказать и о вещах, заведомо не воспринимаемых «внешними» чувствами и, на первый взгляд, весьма абстрактных – таких, как свобода, родина, семья и т.д., которые именно благодаря способности ценить познаются не как отвлеченные идеи, отличаемые от «вещей» и противополагаемые им, а как конкретные реальности или части единой реальности мира, предполагающие чувственный опыт их восприятия (в любви-ненависти) и в равной мере обладающие как ценностью, так и смыслом.
Ценность предполагает опыт (как переживание). Поэтому, с точки зрения философии ценности, понятие трансцендентной ценности заключает в себе противоречие. Однако с точки зрения разума противоречивым оказывается не понятие трансцендентной ценности, а понятие трансцендентного смысла . Поскольку с точки зрения разума все обладает смыслом, ценность каким-то образом должна выпадать из «всего», ибо только в этом случае можно говорить о ценности, отличной от смысла. Отсюда три формально-рассудочные аксиомы , со стороны смысла характеризующие природу ценности:
1) Если существует всеединый смысл, или смысл всего, в том числе ценности, то ценности нет.
2) Если существует иерархия ценностей, и каждая ценность заключает в себе большую или меньшую ценность сравнительно с другой ценностью, то ценности нет.
3) Если все обладает ценностью, или все есть ценность и ничего, кроме ценности, не существует, то ценности нет.
Фактическая наличность ценности, стало быть, ограничивает всеобщие («абсолютные») метафизические суждения как суждения, относимые ко «всему», и предполагает выход за границы традиционной онтологии. Ценность – это не способность быть, а способность относиться. Это не логика бытия (онтология), а «логика отношений», не вопрос существования, а вопрос представленности. Ценность не отвечает на вопрос смысла «Что?», для нее важен ответ на вопрос «Как?»: важно не что мы говорим, а как мы это делаем.
Последнее различение имеет фундаментальное значение как для практического его применения, так и для теории ценности, поскольку на строгой логической основе позволяет дифференцировать суждения ценности от так называемых оценочных, или модальных, суждений (лишенных смысла утверждений), в которых ценность неявно подменяется смыслом. Суждения ценности отличны от суждений оценки , поскольку в них выражает себя не то или иное конкретное отношение оценивающего субъекта («субъективное» в противоположность «объективному»), а сама способность относиться к чему бы то ни было, включая «все», смысл всего или немногого и т. п. Иначе говоря, суждения оценки отличны от суждений ценности, поскольку последние представляют саму способность ценить («ценность вообще», т.е. переживание, прежде всего). В суждениях оценки, напротив, всегда присутствует момент осмысления – явные или неявные вопрошания «для чего» и «почему». То есть предпосылкой возникновения оценочных («взвешивающих на весах мышления») суждений (в отличие от переживаемых суждений ценности) всегда являются определенные смыслы (например, сравнения вещей с точки зрения их полезности, или напротив, бесполезности), и их источником является не способность к переживанию, а способность к мышлению. Таким образом, ценить (дорожить) не есть то же, что оценивать (мерить) (!), и одно из другого совсем не следует – ценность, в силу ее отличия от смысла, вовсе не возникает из оценки . К примеру, в русском языке отличие ценности от оценки определенно присутствует. Так, если «ценить» значит прежде всего эмоционально переживать, то «о-ценивать» значит совсем иное, а именно – производить калькуляцию, устанавливать «цену», «значимость», «стоимость», или, говоря словами И. Канта, «рыночную стоимость», которая, в отличие от ценности (прежде всего, этической и эстетической), всегда определенным образом рассчитывается и вычисляется. Вот почему ценят что-либо, как правило, вопреки или в безразличие к возможной оценке (т.е. возможен «конфликт» ценности и оценки!). С другой стороны, как справедливо отмечает С. Н. Плохов, связь «между истинами и ценностями осуществляется через категорию оценки, которая и опосредует их взаимоотношение» 26 26 Плохов С. Н. Об истинах и ценностях педагогики // Структура ценностей и истин педагогики: материалы Всероссийской конференции молодых ученых 24—25 апреля 2000 г. Уфа: БашГПИ, 2000. С. 51.
, поэтому (в силу соединения или смешения ценности и смысла) любая оценка «всегда внутренне противоречива» 27 27 Там же.
.
Интервал:
Закладка: