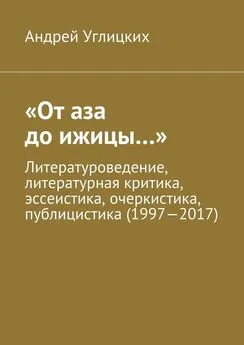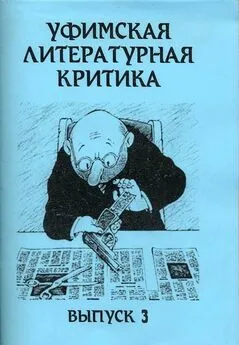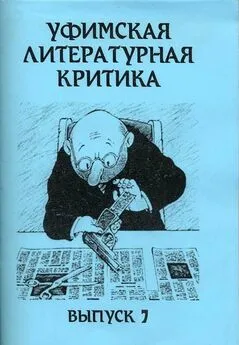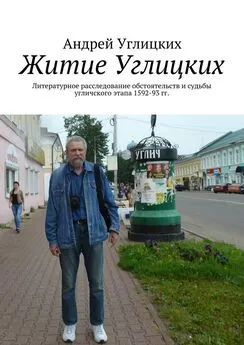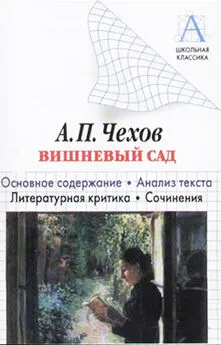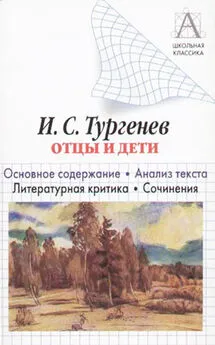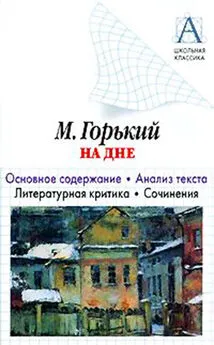Андрей Углицких - «От аза до ижицы…». Литературоведение, литературная критика, эссеистика, очеркистика, публицистика (1997—2017)
- Название:«От аза до ижицы…». Литературоведение, литературная критика, эссеистика, очеркистика, публицистика (1997—2017)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Ридеро
- Год:неизвестен
- ISBN:9785448562020
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Углицких - «От аза до ижицы…». Литературоведение, литературная критика, эссеистика, очеркистика, публицистика (1997—2017) краткое содержание
«От аза до ижицы…». Литературоведение, литературная критика, эссеистика, очеркистика, публицистика (1997—2017) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
С. Поварцев – 253
Евгений Позерт – 93, 471
Ирина Позерт – 93, 94
Вероника Полонская – 257
Валерий Попов – 502 – 505
Александр Прокофьев – 287 – 290
Олег Поскребышев – 127, 138
Алексей Прасолов – 308
Ольга Радзивилл – 61 – 62
Владимир Радкевич – 138
Сергей Рахманинов – 335 – 361
Борис Рейфман – 97 – 128
М. Ремез – 95
Алексей Решетов – 363—373, 545—548
Виктор Родин – 98, 101
Николай Рубцов – 291, 380, 398 – 400
Игорь Савельев – 466
Вячеслав Свальнов – 66
Константин Симонов – 375—394
Лев Иванович Скворцов – 63, 68, 70
Владимир Иванович Славецкий – 471 – 472
Леонид Смелков – 92, 94, 127, 385—387, 469
Владимир Павлович Смирнов – 71
Андрей Смолин – 61, 66
Владимир Соколов – 308 – 309
Валентин Васильевич Сорокин – 57, 63
Станислав Стасенко – 96
Любовь Стасюк – 468
Николай Старшинов – 127
Ольга Суворова – 95
А.П.Сумароков – 457
Людмила Сухова – 467
Борис Николаевич Тарасов – 76 – 78
Аза Алибековна Тахо – Годи – 73 – 75
Валентина Телегина – 395 – 404
Владимир Тепляков – 66, 470
Александр Тимофеевский – 513 – 516
Елена Тиновская – 539 – 543
Эмиль Тоде – 440
Владимир Трефилов – 97
Александр Труханенко – 96
Михаил Угаров – 444
Елена Углицких – 41
Афанасий Фет – 405 – 418
Александр Фомин – 96, 97, 128
Хаджи Халид – 469
Татьяна Хлебянкина – 66, 79
В. Хомякова – 253
Валентина Хомутова – 99
Федор Черепанов – 481
Игорь Черницкий – 67, 419 – 428, 464 – 465
Е.Е.Чернов – 63, 68
Никита Шагимарданов – 93, 94, 127
Варлам Шаламов – 460
Михаил Шелехов – 471
Виктор Широков – 138
Дмитрий Ширяев – 401
Степан Щипачев – 127
Сергей Щученко – 66, 429 – 434, 471
Александр Эбаноидзе – 435 – 445, 449
Никита Янев – 466
Денис Яшин – 127
«Лекарь с отличием со всеми правами и преимуществами…»
Штрихи к булгаковской «летописи»
1926 год
Казалось, ухватил Бога за бороду!
В тот год у Булгакова получалось все:
«Багровый остров» – попал!
«Дни Турбиных» – в точку!!
«Зойкина квартира» – опять в самое яблочко!!!
Денег – куры не клюют.
Любовь Евгеньевна не может нарадоваться: хорошая квартира на Большой Пироговской, шампанское, ананасы, затяжные пирушки, Батум, Крым, море…
1930 год
Увы, не осталось ничего…
Не публикуется в Советской России ни единой строчки, не ставится ни одного спектакля.
«Бег» – «вражья» пьеса.
«Кабала святош» – антисоветчина.
В отчаянии он приобретает пистолет, готовясь к неизбежному…
НО – высочайший телефонный звонок Первого в государстве лица и…
Ура! – приняли на работу во МХАТ!
Ура!! – разрешили возобновить «Дни Турбиных»!!
1934 год
Вступил в Союз советских писателей.
Пистолет за ненадобностью утоплен в Москва – реке.
1936 год
«Миша, может быть, ты напишешь пьесу о… Ты же собирался…»
1939 год
Написал.
Пьеса называлась «Батум». Нигде не поставлена.
«Гипертонический нефросклероз…» Морфий, прописанный еще в 1924 году, «с целью снятия болевых симптомов…»
1940 год
10 марта – смерть.
От Батума до «Батума» получилось 13 лет.
Читая «окаянного» Бунина
Заметы на полях непростой книги.
Опубликовано в ж.«Московский вестник». – 1998 – №5. – С.213—223
I
Днями я был крайне озадачен одной славной женщиной (назовем её Марией Ивановной), в прошлом медработником, а ныне пенсионеркой:
– Прочла «Окаянные дни» и разочаровалась в их авторе», – делилась она со мной, – Так зло говорить о Блоке, Брюсове, Маяковском, о своей стране!
В первый момент я опешил, опешил настолько, что повинуясь какой – то интуитивно осознанной необходимости «не обострять», смолчал. Но оброненное вгорячах Марией Ивановной не прошло бесследно, отложилось, напоминало о себе.
Гневный сарказм действительно переполняет это произведение. Мастерство писателя, умело использующего всю палитру приёмов художественной выразительности, лишь усиливают, усугубляют это впечатление, а жанр повествования (дневниковая эпопея) наделяют её достоверностью и статусом обличительного документа большой силы.
Читатель волшебным образом переносится в эпицентр урагана под названием «Революционная Россия», становится очевидцем (едва ли не участником!) светопреставления, случившегося на просторах «одной шестой земного шара».
На наших глазах разыгрывается одна из самых страшных трагедий двадцатого века. Ещё удивительнее, что видя мир бунинскими глазами, слыша бунинскими ушами, безотчётно находясь в мистической власти его эгоцентричного обаяния, мы не испытываем никакого насилия над собой. Наоборот, разделяя или не разделяя позицию автора, погружаясь в самую гущу событий, мы испытываем неподдельный интерес и желание разобраться в происходящем. Беспокоит лишь ощущение нехватки воздуха, появляющееся на самой глубине. Приходиться периодически «всплывать на поверхность», но лишь для того, чтобы глотнуть кислорода перед новым «погружением», – настолько затягивает, увлекает нас нелёгкое «плавание» по реке Времени, исполненной опасностями и драматическими поворотами.
Эту книгу невозможно читать, от неё невозможно оторваться.
Читатель, конечно, тут же «поймает» меня на логической ошибке: «Ну как же так? Вы только что говорили нам об «эпицентре урагана», о «светопреставлении», а в книге Бунина немало лирических, почти идиллических картин, пейзажей «средне – возвышенной» и южнорусской природы: солнца, «яркого до слёз», синего – синего мартовского неба, радужной прозрачности сосулек, готовых вот – вот сорваться с карнизов крыш.
Но никакого противоречия нет. Мастерски используя приём «контрастного» письма, когда полная внутреннего драматизма событийная канва произведения «прореживается», «прослаивается» автором безмятежными ландшафтами, живыми описаниями постреволюционного быта, Бунин, как бы, сглаживает углы, на время примиряет диалектически неразрывные «добро» и «зло», «свет» и «тьму». При этом, общий настрой книги остается тревожным. Исподволь угадывается, что пощады не будет никому: ни «белым», ни «красным». Победителей нет. Ибо, время такое – «окаянщина».
Мог ли Бунин быть объективным, апокалиптично рисуя картину «расхристанной», погибающей России? Вся ли русская история – история «окаянщины»? Эти вопросы встают перед читателем «Окаянных дней», как ветряные мельницы перед Дон – Кихотом Ламанчским.
Всмотримся в портрет писателя.
Аскетически – строгое, непроницаемо – отрешённое лицо…
Не проступает ли сквозь напускную его хмурость, академическое «высокомерие» – нечеловеческая человеческая усталость? Не выдаёт ли, не отражает ли живой, печальный бунинский взгляд заботу, постоянную, каждодневную заботу, извечную заботу коренного русского интеллигента об общем, «абсолютном» общественном благе?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: