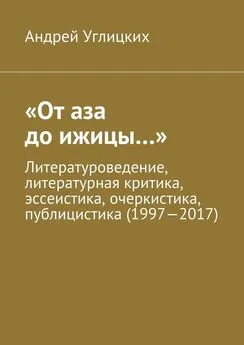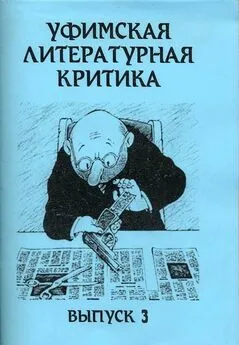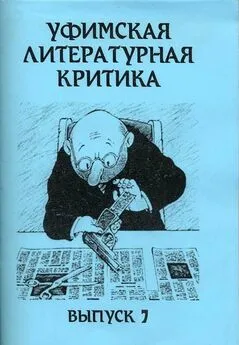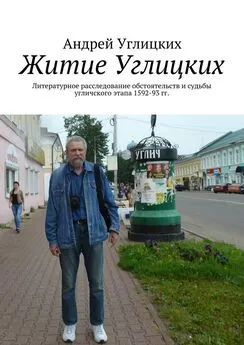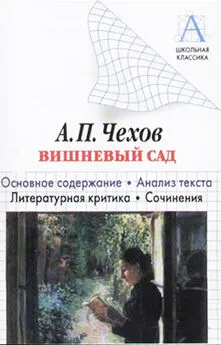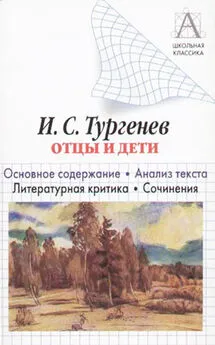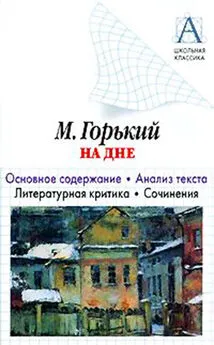Андрей Углицких - «От аза до ижицы…». Литературоведение, литературная критика, эссеистика, очеркистика, публицистика (1997—2017)
- Название:«От аза до ижицы…». Литературоведение, литературная критика, эссеистика, очеркистика, публицистика (1997—2017)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Ридеро
- Год:неизвестен
- ISBN:9785448562020
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Углицких - «От аза до ижицы…». Литературоведение, литературная критика, эссеистика, очеркистика, публицистика (1997—2017) краткое содержание
«От аза до ижицы…». Литературоведение, литературная критика, эссеистика, очеркистика, публицистика (1997—2017) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Я часто думаю об безвестных героях этой неизвестной кавказской войны.
Кто были эти российские парни, исполнившие свою присягу? Знают ли там, на «Большой Земле», что с ними сталось? Или до сих пор они числятся в «без вести пропавших», а их родители обивают пороги приёмных военных чиновников, пытаясь доискаться до истоков, пробиваясь к правде сквозь косые недоверчивые взгляды…
Последнее время особенно часто на улицах мне попадаются на глаза юные солдатики. Нынешние «служивые» – это мальчишки с бунинскими глазами, от которых и остались – то, по сути, одни глаза – от голода ли, от издевательств ли «дедов», от того и другого вместе – не знаю. Виновато, заискивающе улыбаясь синими от холода губами, они «стреляют» сигаретку, (если повезет, то и другую) и, разжившись табачком, благодарно растворяются в толпе. Шейки у защитников Отечества – цыплячьи, у большинства – гнойничковые заболевания кожи, их красные, «заветренные», льдистые руки – в огрубелых мозолях… Шинелишки на рыбьем меху. Да кого они могут, простите, защитить? Да их самих, впору, защищать!
Окаянство…«Окаянный… диавол, сатана».
Не колесницами ли Сатаны казались Ивану Алексеевичу те страшные чёрные грузовики, летящие по безлюдным обледенелым улицам Москвы 1918 года? Может быть, пророчески предвидел он эволюцию этих «революционных» монстров сначала в чёрные, ночные «маруси» тридцатых годов, а далее, в спецмашины психиатрических бригад семидесятых, и, наконец, в танковые колонны, с рёвом несущиеся незабываемо – ненастным Яблочным Спасом 1991 года по Ленинскому проспекту Москвы в сторону Центра…
Но только ли в этом «Окаянные дни» оказались пророческими, только ли в этом!
«Окаянные дни» – это ещё и исповедальная книга человеческого отчаянья, безысходного исступления. Писатель, находясь в состоянии аффективного ситуационного стресса находил первое время какое – то облегчение «выговариваясь» в дневник. Но поскольку «окаянщины» становилось всё больше, а силы душевные таяли – симптомы смятения нарастали. В первой части книги мы видим только одну ночную запись, во второй – их уже шесть (не мог уснуть ночью, мысленно полемизируя со своими оппонентами). Развёрнутая клиника тяжёлого невроза описывается самим Буниным, как «тупость, ко всему отвращение, потеря вкуса к жизни.. «…Вчера на базаре несколько минут чувствовал, что могу упасть… «» …Проснувшись, как – то особенно ясно, трезво и с ужасом понял, что я просто погибаю от этой жизни и физически, и душевно. И записываю я, в сущности, чёрт знает что, что попало, как сумасшедший… …Я два раза был близок к обмороку. Надо бросить эти записи. Записывая, я ещё больше растравляю себе сердце» (10 мая, 11,19 июня). Болезненное состояние усугубляло непонимание коллег, литературных знакомцев. Характерен в этом отношение эпизод с Ф. Ф. Кукушкиным (9 июня): «Я не сказал ему ничего ужасного, сказал только, что народу уже надоела война, и что все газетные крики о том, что он рвется в бой, преступные враки» – пишет Бунин, и продолжает: «И вдруг он оборвал меня со своей обычной корректностью, но на этот раз с необычайной для него резкостью: «Оставим этот разговор. Мне ваши взгляды на народ всегда казались – ну, извините, слишком исключительными, что ли…»
…Сегодня опять перечитывал Бунина. Каким он был там, в эмиграции, на склоне дней своих? Может быть, таким:
***
Лазурным прибоем разбужен
Он смотрит часами в окно…
Иван Алексеевич Бунин,
По сути, и здесь, одинок,
По – юношески непреклонен
И резок в сужденьях своих,
Но голос – уже монотонен
И как – то болезненно тих…
Когда он с собою в раздоре,
А море чужое штормит,
Изгнаннику кажется: море
Березовой рощей шумит…
Кстати, о словах «читать» и «чтить». Не общая ли, всё – таки, у них основа? Читая Бунина, я, тем самым, – чту его, ибо высшая форма уважения – это чтение.
Представим себе на минуту ситуацию невозможную: Иван Алексеевич Бунин, чудесным образом, благодаря некоему эликсиру бессмертия, не умер, а преспокойно живёт среди нас, в 1998 году. Он видит то, что видим мы, слышит то, что и мы слышим, пережил вместе с нами крушение большевистского режима.
Вопрос: «Был бы Бунин счастлив сегодняшними переменами в России? Пожал ли бы он, к примеру, руку нашему Президенту, поблагодарил ли бы его за такое демократическое «исцеление» Родины? Или в очередной раз, разругавшись вдрызг со всеми, засел бы за новые «Окаянные дни»?
Красная Вишера. Путевые заметки
По следам собственной книги «Житие Углицких»
Тракт Красной Вишеры
Красновишерский тракт – образование, надо понимать, исключительно искусственное. Он прорублен, как некогда, окно в Европу Петром Великим – в буквальном смысле этого слова, топорно, прямо и просто. Почти везде прямая стрела его уходит вдаль, просматриваясь на несколько километров вперед. Повороты относительно редки. Справа и слева от трассы – сначала кустарниковый «подшерсток», потом подлесок, далее – сплошная таежина. Впрочем, кое – где попадаются свежие гари, проплешины, старые и новые ляды, а также недавние лесопосадки. Изредка виднеются прикрепленные к деревьям на высоте человеческого роста таблички красного цвета, на которых, даже из стремительно движущейся машины можно прочитать первое, самое верхнее слово: «Медведи!» Остальные слова на скорости не прочитываются, но они, если честно и не нужны, их просто домысливаешь сам, доходишь силами собственного воображения. Дорожное полотно хорошее, содержится аккуратно, поэтому выбоин и вымоин практически нет. Само по себе движение по Красновишерскому тракту можно считать вполне комфортным: летит навстречу дорожное полотно, выплывают, и увеличиваясь наплывают на ветровое стекло автомобиля дорожные указатели. р. Нижняя Язьва, Федорцово, Сейсмостанция. В сочетании с хорошей погодой, с каким – то фантастически синим небом (а на Западном Урале вообще, как я заметил, небо не жидко – голубое, белесо – голубоватое, как в Москве, скажем, нет, на Урале небо темно, насыщенно синее, как синька. Как впрочем, и вода в Камском море. Но – повторюсь – это только в хорошую, ясную погоду!) все это создает атмосферу какую – то сказочную, удивительную, неповторимую. Встречные машины скорее не норма, а исключение из таковой. Все номера встреченных и попутных автомобилей 59 серии (Пермский край). Собственно, красновишерским данный тракт считать можно (да и то, лишь условно – ведь за Красновишерском еще есть и Вая, и Велс!) после отпадения дороги на Чердынь – то есть, сразу же после губдорского поворота, но уж больно нравится мне это самое слово «Красновишерск» повторять: «Красновишерск, Красновишерск…» Еще бы – ведь, сорок лет не был! Сорок! Даже представить страшно такую прорву времени. А местные, кстати, «Красновишерск» очень редко говорят. Думаю, потому, что очень длинно это выговаривать: «Крас – но – ви – шерск». Целых четыре слога. Да в конце еще и три согласных подряд. Язык сломаешь! Нет, местных не проведешь! Они говорят просто, куда проще: «Вишера, на Вишере, с Вишеры». Или, уж в самом крайнем, в самом торжественном случае: «Красная Вишера, на Красной Вишере, Красную Вишеру». Кстати, газета местная так называется: «Красная Вишера». Но об этом – позднее. До газеты еще доехать надо. Пока лишь Красновишерский тракт… Тракт Красной Вишеры, храни тебя Господь!
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: