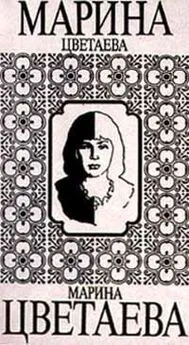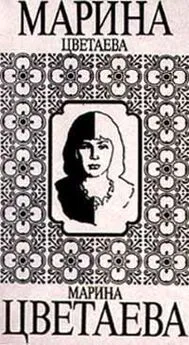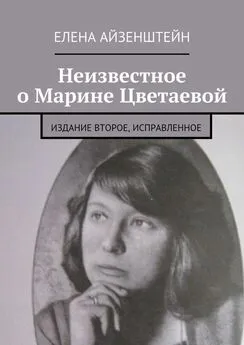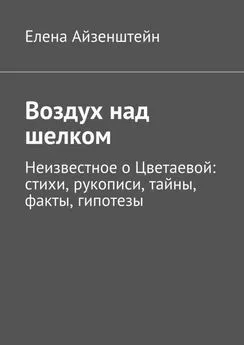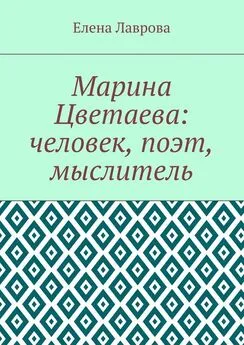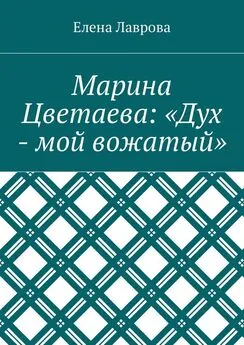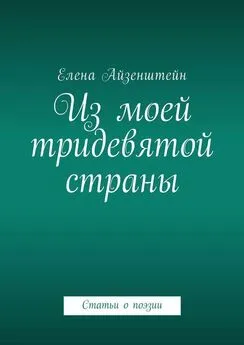Елена Айзенштейн - Марина Цветаева. Статьи и материалы
- Название:Марина Цветаева. Статьи и материалы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Ридеро
- Год:неизвестен
- ISBN:9785447403607
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Елена Айзенштейн - Марина Цветаева. Статьи и материалы краткое содержание
Марина Цветаева. Статьи и материалы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Словом, Борис в мужественной роли Базарова, а я – тех старичков – кладбищенских. Здесь слова «колхозы», «Челюскин» являются антиподами человеческих чувств, символами той новой России, которую Цветаева принять не может.
«Челюскинцев», стоящих несколько особняком в творчестве Цветаевой, окружает лирика иной направленности, воплощающая цветаевское отталкивание от того мира, от того века, в котором она живет. «Век мой – яд мой, век мой – вред мой, век моя – враг мой, век мой – ад», – лейтмотив отношения Цветаевой к своему времени. Это было неприятие и эмиграции, и СССР. «Двух станов не боец, а – если гость случайный…", – таким видится ей поэт. Своё эмигрантство Цветаева ощущала не в рамках земных границ и стран, а в космическом масштабе! «Всякий поэт по существу эмигрант, даже в России. <���…> Эмигрант из Бессмертья в время, невозвращенец в свое небо». Тоска по тому небу, до той свободе, по тому уединению пронизывает лирику Цветаевой 20-х – 30-х годов:
– На смарку твоя стих!
На стройку твой лес
Столетний!
– Не верь, сын!
И вместо земных —
Насильных небес —
Небесных земель
Синь.
Карабчиевский пытается убедить читателя в сходстве творческого метода Цветаевой и Маяковского. Он занимается поисками схожей лексики, размеров, расположения слов в стихе. При этом критик говорит о «формальном сходстве», совершенно на заботясь о том, какой смысл каждый из поэтов вкладывал в свои стихи, то есть сам подходит к стихам, как к конструкциям, лишая их сути. Для него самого слово – оболочка, содержимое его не волнует. Хотя от Цветаевой он требует бережного обращения со словом!
По Карабчиевскому, Цветаеву сближает с Маяковским «роковая заданность, изначальная конструктивность мышления и особенно – отношение к слову». На самом деле процесс цветаевского творчества не «умозрителен», а стихиен, связан не с конструированием (ее страх перед техникой и машинами!), а с музыкой. Стихи Цветаевой рождаются из «напева», «мелодической или ритмической картины», в которую она вслушивается. Мгновенья творчества воспринимаются ею как запись уже существующего где-то в иной реальности стиха. (Она любила соотносить себя о Жанной Д» Арк, сравнивала «звуковой призрак» будущей вещи с теми ангельскими голосами, которые повелевали Орлеанской девой). Лишь затем начинается поиск слов, происходивший тоже на уровне интуитивного, бессознательного.
Для Цветаевой слово – орудие в борьбе за суть, за высвобождение через слово собственной душ. «Я пишу, чтобы добраться до сути, выявить суть», – объясняла она. И не понимала разговоров о «работе над словом», о «самостоятельной жизни слова». Карабчиевский прав, когда говорит о том, что слово было для Цветаевой средством и не вполне выражало ее мысли и чувства. Она и сама это знала. И писала Пастернаку, вероятно, думая не только о нем: «Ваша страсть к словам – только доказательство, насколько они для Вас средство. Страсть эта – отчаяние сказа. Звук Вы любите больше слова, и шум (пустой) больше звука, – потому что в нем все. А Вы обречены на слова, и, как каторжник изнемогая… Вы хотите невозможного, из области слов выходящего. То, что Вы поэт – промах (Божий – и божественный!)» Стихами она, действительно, изъяснялась, а не жила, «и была огромная область души подлинной, дословесной, еще не вошедшей в выражение и не искаженной словом» (Д. А. Мачинский).
Кроме слова, существовала для Цветаевой и еще одна величина в стихе, не менее значимая и обнажающая часть не высвобожденного словом смысла, иной уровень этого смысла: интонация, вырастающая из «напева». Слово произнесенное обладает для Цветаевой большей силой, чем написанное. Устная речь полнее передает чувства говорящего, потому что, кроме слов, огромная роль принадлежит интонации, окраске голоса, динамике речи. Цветаева стремилась к преодолению несовершенства письменного высказывания, к точному закреплению авторской интонации на письме. «Ты требуешь от стихов того, что может дать только музыка!» – объяснял Цветаевой Бальмонт. Фактически она добивалась невозможного, писала партитуру своей вещи, неслучайно А. Белый, очарованный цветаевской «Разлукой», назвал ее «композиторшей и певицей», отметив в ее поэтике свойственную только музыке особенность точно фиксировать интонацию: «И забываешь все прочее: образы, пластику, ритм и лингвистику, чтобы пропеть как бы голосом поэтессы то именно, что почти в нотных знаках дала она нам», – писал он. Поэтому тексты Цветаевой изобилуют знаками препинания. Помимо синтаксической роли, они несут и другую функцию: закрепляют высоту, силу каждого произносимого слова, уточняют смысловые отношения слов в стихе, то есть доносят до нас авторский голос (стихи Цветаевой вообще ориентированы на произнесение, если не вслух, то внутренним слухом). Поиск поэтом слов подобен работе композитора, которому необходимо гармонизовать мелодию. Поэтическая интонация – мелодия. Слово – аккорд. Родство слов в строке Цветаевой не только «грамматическое», но и гармоническое:
Минута: ми′нущая: минешь!
Так мимо же, и страсть и друг!
Искусство интонируемого смысла – этой формулой Б. Асафьева о музыке хотелось бы определить цветаевскую поэтику. В огромной мере интонационный принцип отразился и в ее прозе. То, что Ю. Карабчиевский назвал «внедрением» Маяковского, на самом деле явилось влиянием эпохи. Цветаевское понимание эпохи выразилось в сопротивлении ей, в невозможности принять ее законы. Сама же эпоха воплотилась в интонационном и ритмическом строе ее стихов, в той «точной пульсации века», которую бессознательно, медиумично фиксирует Цветаева в своем творчестве. Родство Цветаевой и Маяковского заключается не в их единомыслии, не в копировании каких-то «конструкций», оборотов речи, не в формальном сходстве слов, а в «поэтической (dichterische) отзывчивости на новое звучание воздуха». В этом их новизна и современность.
Ю. Карабчиевский хотел предъявить счет эпохе, но занялся этим в духе времени: исказив факты, критик попытался изобрести школу Маяковского, собрать разных поэтов воедино по формальному признаку, непременно организовать массу. Ему отвечает все та же Цветаева: «Поэтические школы (знак века!) – вульгаризация поэзии, а формальную критику я бы сравнила с «Советами молодым хозяйкам». <���…>
Единственный справочник: собственный слух. <���…>
Единственный учитель: собственный труд.
А единственный судья: будущее.
Книга Ю. Карабчиевского не может не отталкивать, потому что в ней он сам явился «продолжателем» Маяковского. Строка Владимира Владимировича «Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо» служит удачным эпиграфом к его работе. 1992 г.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: