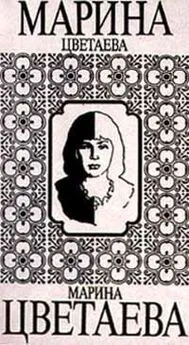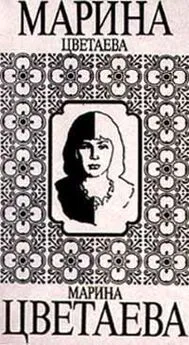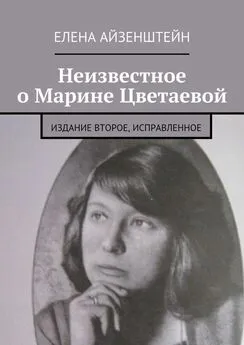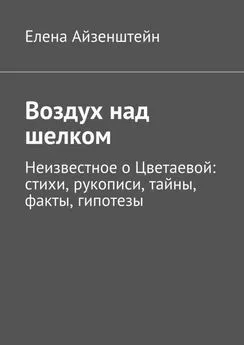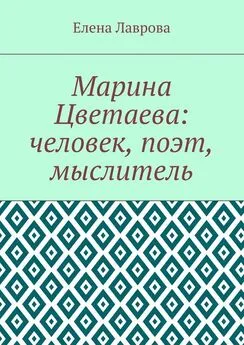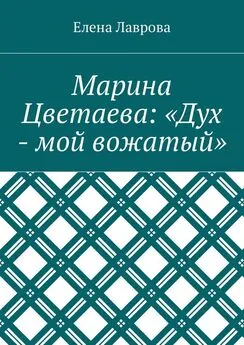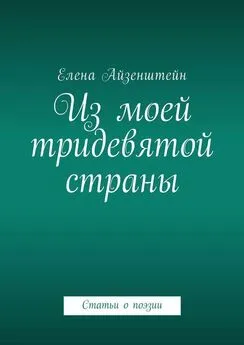Елена Айзенштейн - Марина Цветаева. Статьи и материалы
- Название:Марина Цветаева. Статьи и материалы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Ридеро
- Год:неизвестен
- ISBN:9785447403607
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Елена Айзенштейн - Марина Цветаева. Статьи и материалы краткое содержание
Марина Цветаева. Статьи и материалы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Та же тема встречи душ, находящихся в разных небесных слоях, на разных высотах духа – в цветаевской «Поэме Воздуха». Восхождению цветаевского Я в Бога помогает «кто-то», духовный покровитель Цветаевой, встречающий ее на том свете (в тот момент жизни Цветаева соотносила его с Рильке). Чтобы слиться с Цветаевой, ему необходимо снизиться на ее высоту, либо поднять ее до себя:
Что-то нужно выравнять:
Либо ты на пядь
Снизься, на мыслителей
Всех – державу всю!
Либо – и услышана:
Больше не звучу.
В «О путях твоих пытать не буду…» Христос в наклоне нежности встречает восходящую в его небо Магдалину. Слово «мироносица» в третьем стихотворении Цветаевой амбивалентно: это не столько несущая миро, сколько несущая мир, мир своего Я. Ту самую неведомую землю своей бессмертной души, о которой в 1927 году Цветаева будет писать Рильке в «Новогоднем», мечтая о потусторонней встрече с ним:
– До свиданья! До знакомства!
Свидимся – не знаю, но – споемся!
С мне самой неведомой землею —
С целым морем, Райнер, с целой мною!
В «Новогоднем» Цветаева обещает Рильке спеться с неведомым морем ее бессмертной души, которую обретет она после жизни, а в третьем стихотворении «Магдалины» об этом слиянии с Магдалиной, с волной души, говорит Христос («омыла как волна»). Интересно отметить, что тот же мотив водной стихии как тела души, отличного от физического тела, звучит в письме С. Андрониковой-Гальперн от 12 августа 1932 года, в котором Цветаева, рассказывая свой сон о Саломее, пишет: « (У меня чувство, что я видела во сне Вашу душу. Вы были в белом, просторном, ниспадавшем, струящемся, в платье, непрерывно создаваемом Вашим телом: телом Вашей души.) Воспоминание о Вас в этом сне, как о водоросли в воде: ее движения. Вы были тихо качаемы каким-то морем, которое меня с Вами рознило. – Событий никаких, знаю одно, что я Вас любила до такого исступления (безмолвного), хотела к Вам до такого самозабвения, что сейчас совсем опустошена (переполнена)». «К чему мне миро?» – воспоминание о прошлом, о встрече на земле. Там Магдалина омыла ноги Христа миром. Здесь, в Вечной жизни, – любовью души своей.
Говоря о поэтическом бессмертии, о неподвластности высокой поэзии времени, Бродский пишет: «…два эти стихотворения („У людей пред праздником уборка…“ и „О путях твоих пытать не буду…“ – Е. А.) представляют собой единое целое <���…> под ними должны стоять оба имени, две даты как доказательство, что двадцать шесть лет, их разделяющие, прошли только чтобы их соединить. Может быть, это объяснит миру, чего стоит время в поэзии – во всяком случае, в русской поэзии. По крайней мере – это, может быть, даст нам забыть, что цветаевское стихотворение датировано 31 августа (1923 года)». Последнее забывать не следует, ибо 31 августа – дата третьего стихотворения цикла «Магдалина» Цветаевой – не случайность, а закономерность, символ. Существует несколько версий самоубийства Цветаевой. По мнению А. И. Цветаевой, ее сестра ушла из жизни ради сына. М. Белкина объяснила самоубийство Цветаевой душевным надломом и тем, что она была не самоуправляема. И. Кудрова в книге «Гибель Марины Цветаевой» изложила и прокомментировала версию Кирилла Хенкина о связи гибели Цветаевой с попыткой завербовать ее органами НКВД. Но есть еще одна, менее известная и, на мой взгляд, самая изнутри цветаевская, выдвинутая и обоснованная Д. А. Мачинским во время одной из публичных лекций. По мнению Д. А. Мачинского, Цветаева ушла из жизни не в обычный, а заранее избранный день, день, который она мысленно отмечала в календаре задолго до самоубийства. 31 августа воспринималось Цветаевой праздником возвращения в свое небо, «домой», с чужбины земли на родину того света. Если принять это за достоверность, становится тем более понятной тональность третьего стихотворения Цветаевой «Магдалина». 31 августа – смерть Магдалины и ее соединение с Христом, цветаевским «я за сто верст».
«„Магдалина“ для Цветаевой по существу лишь еще одна маска, метафорический материал, мало чем отличающийся от Федры или Ариадны, или от Лилит», – справедливо напоминает нам Бродский. Но он не увидел, в силу, может быть, своего христианского чувства, что и Христос для Цветаевой – мужской архетип, как Магдалина – архетип женский. Христос – духовный двойник Цветаевой в мире ином, высший возлюбленный, которого она пыталась найти в веренице встреченных в жизни мужчин, свидание с которым возможно лишь «по ту сторону дней». В тот Час Души единственным человеком, который отождествлялся с тем нечеловеческим, небесным Христом, «святыней», с «тем небом за краем земли», с тем, «чего еще не было», но что будет (сбудется!), пребывал Борис Пастернак: «Брат без других сестер: / Напрочь присвоенный! / По гробовой костер – Брат…» (13 июля 1923 г.). «О путях твоих пытать не буду…» подсознательно было ориентировано на Пастернака. Он не присвоил себе «Магдалину» Цветаевой, она изначально принадлежала ему, и Пастернак это знал, по крайней мере, он знал это если не в 1923 году, то уже тогда, когда Цветаева из поэта, сотрудничавшего с высшими силами, сама стала этой силой, символом будущего воскресения. Именно это, а не крещение Цветаевой при рождении в православную веру (Бродский) было определяющим в стремлении Пастернака сказать устами Магдалины (Цветаевой) о распятии и воскресении Христа, о его, пастернаковском кресте, который в 1949-м, да и раньше, в 1946-м, маячил перед глазами его души. Бродский неудачно назвал цветаевские реминисценции у Пастернака «зависимостью». Это была встреча Цветаевой и Пастернака «в Боге, друг в друге» через «стихию стихий – слово». Небытие в любимом, как определила когда-то Цветаева. Пастернак настолько сроднился с ее душой, что заговорил ее голосом. Он в Цветаевой (Магдалине), она в нем (Христе). Взаимопроникновение. Слияние. Пастернак фактически произнес Слово «на весь тот свет», «на ту жизнь», которого от него в 1923—1925-м (и сколько еще?) ждала Цветаева. Протянул ей руку «поверх явной и сплошной разлуки». И дело не столько в том, что Пастернаку надо было сказать в стихах как автору романа «Доктор Живаго» о Ларе, сколько во внутренней необходимости обратиться к Цветаевой, потому что, помимо чувства вины, которое Пастернак испытывал после ее гибели, им владело чувство любви к ней.
«Пастернак <���…> пишет не одно, но два стихотворения с общим названием „Магдалина“: первое с отчетливым эхом Рильке, второе – Цветаевой», – указывает Бродский. Прошел он мимо того, что Цветаева совершенно явно присутствует и в первом стихотворении Пастернака. «Раба мужских причуд» – Магдалина первых двух цветаевских стихотворений цикла:
О, где бы я теперь была,
Учитель мой и мой спаситель,
Когда б ночами у стола
Меня бы вечность не ждала,
Как новый, в сети ремесла
Мной завлеченный посетитель.
Интервал:
Закладка: