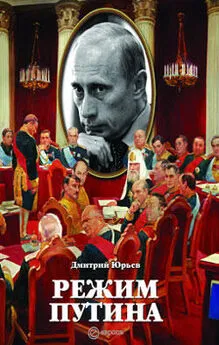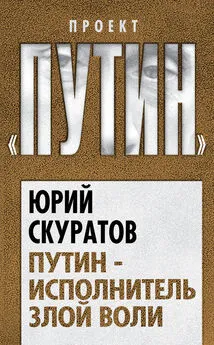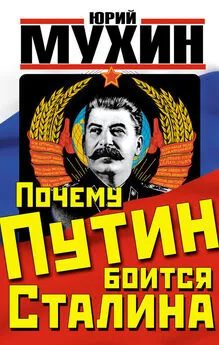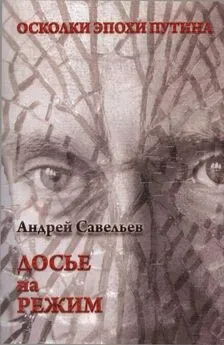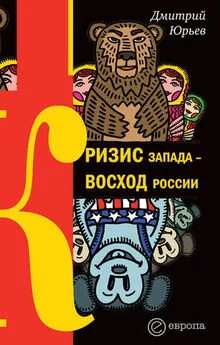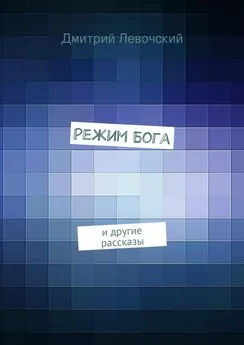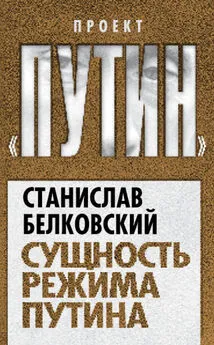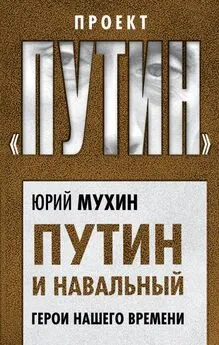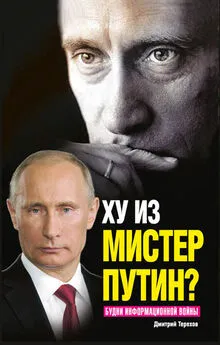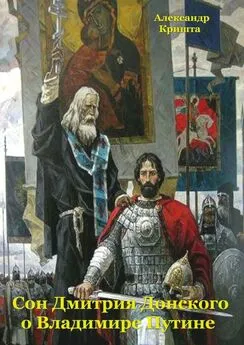Дмитрий Юрьев - Режим Путина. Постдемократия
- Название:Режим Путина. Постдемократия
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Array
- Год:2005
- Город:Москва
- ISBN:5-902048-23-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Юрьев - Режим Путина. Постдемократия краткое содержание
Лишь профессиональный язык механиков сохранил натуральный исходный смысл: режим работы двигателя – нормальный. Эта книга о мечте Президента нормализовать работу государственной машины, о стремлении к этому и о множестве барьеров на пути к решению этой задачи.
Одни барьеры застарелые, другие порождены отчасти предвидимыми, но все равно внезапными обстоятельствами: от Беслана и казуса Ходорковского до навыков бюрократий, партий и движений, бизнеса и, наконец, всякого российского человека, которому надлежит стать гражданином.
Режим Путина. Постдемократия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
ИГРА В «СРЕДНИЕ КЛАССЫ»
«Средний класс» в России пытался родиться трижды. В первый раз на эту роль – роль слоя, объединяющего экономически активное, социально солидарное, культурно и ценностно ориентированное население, – претендовало то самое «неноменклатурное большинство» страны, которое обеспечило почти 60-процентную поддержку Ельцину на выборах президента РСФСР и провалило путч ГКЧП. Этот «советский средний класс» объединял практически все образованное население страны: научно-техническую и творческую интеллигенцию, инженерно-технических работников, врачей, учителей, средних и младших офицеров вооруженных сил и правоохранительных органов, квалифицированных рабочих, а также представителей нижнего и среднего уровней партийно-хозяйственной номенклатуры – под знаменитым кавээновским лозунгом 1988 года: «Партия, дай порулить!» [7] Имелся в виду популярный советский плакат «Партия – наш рулевой». Центральным политическим лозунгом массовых митингов 1988–1990 годов стало требование отмены «шестой статьи» – статьи Конституции СССР, в соответствии с которой коммунистическая партия провозглашалась «руководящей и направляющей силой общества, ядром его политической системы» (реально шестая статья была отменена III съездом народных депутатов СССР в начале 1990 года одновременно с введением поста президента СССР). Вместе с тем следует отметить, что первоначально призыв «Партия, дай порулить!» (автор – участник команды КВН Новосибирского университета Константин Наумочкин) воспринимался как ироничная, но вполне доброжелательная просьба, обращенная к единственному в стране субъекту, имеющему право и возможность «дать порулить».
Активизация «советского среднего класса» в конце 80-х годов была социально-психологической реакцией на сложившуюся в СССР систему. Система исчерпала свой ресурс самосохранения, оказалась лишена обратных связей: с одной стороны, требования жизни (прежде всего экономическое и военное соревнование с Западом в условиях НТР) обусловили резкий рост квалификации, интеллектуального уровня и, следовательно, самосознания и амбиций «образованного большинства» советского общества, с другой стороны – все рычаги власти, управления, а главное, распределения оставались в бесконтрольном ведении партгосноменклатуры. Более того, даже на демонстрационно-пропагандистском уровне общественной организации (например, квоты на прием в КПСС или на выборы в Советы) сохранялась давно утратившая всякий смысл имитационная дискриминация «советских средних» в пользу якобы «правящего» пролетариата.
Стремление к социальному реваншу, ставшее стержнем общенародного подъема в конце 80-х годов, было окрашено в эмоционально привлекательные тона, поскольку «номенклатура» представала главной и единственной преградой на пути к тотальному улучшению качества и наполненности жизни.
Однако советский средний класс был именно советским средним классом. Несмотря на достаточно высокий культурный уровень, несмотря на активное и подробное общественное обсуждение перспектив перехода от «командно-административной системы» к «рыночному хозяйству», на уровне «коллективного бессознательного» советский средний класс сохранял атавистические, патерналистские представления о роли и месте государства как неограниченного источника власти и благ. Общественное движение конца 80-х годов только силой собственной инерции и политической логики превратилось в «демократическое движение» – довольно долго в массе своей это было в чистом виде движение социального реванша с достаточно примитивной мотивацией: нужно убрать «плохих» людей (то есть «их») и на их место поставить «хороших» (то есть «нас»).
Такое утопическое представление о постсоветском будущем не выдержало столкновения с реальностью. Во-первых, рыночно-демократическая идеология, став официальной идеологией реформ, предложила всем своим сторонникам непопулярные и не рассчитанные на немедленное улучшение жизни меры (прежде всего децентрализацию управления экономикой и либерализацию цен). Во-вторых, и эта, ставшая сразу же достаточно проблемной, идеология столкнулась с практикой «номенклатурного реванша»: даже «плохих людей» из прежней партгосноменклатуры, и тех практически не заменили. [8] Тема «номенклатурного реванша» активно обсуждалась в СМИ на рубеже 1991–1992 годов. В первые месяцы после августа 1991 года вопросы «деноменклатуризации власти» и «люстрации» (принудительного отстранения от работы в госаппарате деятелей номенклатурно-коммунистического режима по типу «денацификации» в постнюрнбергской Германии) были в центре общественной дискуссии; после завершения (осень 1992 года) процесса в Конституционном суде о правомерности запрета КПСС и после легализации КПРФ тема «номенклатурного реванша» стала уделом маргиналов демдвижения.
Наступил первый, слабо осознанный, фрустрационный шок – эффект «украденной революции», датируемый последними месяцами 1991 года. В этот момент многомиллионный советский средний класс утратил свое «классовое» единство, так и не став кадровым резервом для новой демократической власти.
Вторая попытка формирования среднего класса в России началась практически сразу же после эмоционального поражения «августовской революции», пока еще не осознанного на смысловом уровне. «Средний класс» второго призыва представлял собой ту большую и наиболее активную часть прежнего советского среднего класса, которая, с одной стороны, оказалась не втянутой во власть и в первые крупные спекуляции общегосударственного уровня, а с другой, не отсеялась на социальную обочину вместе с теми, для кого «номенклатурный реванш» (или «грабительские гайдаровские реформы») стал знаком окончательного поражения идеалов «августа 1991 года».
«Второй средний класс» в наиболее полной мере воспринял в качестве главного жизненного стимула разрушение системы ограничений и запретов, свойственных советскому режиму. Реакцией стала эйфорическая готовность к неограниченному приобретению благ, лозунгом дня – «Я не халявщик, я партнер». Именно из «халявщиков и партнеров» и составился «второй средний класс», в основе массовой психологии которого оставалось советское подсознательное представление о государстве как о неограниченном резервуаре – бесконечном источнике ресурсов, денег, благ, добра и счастья. Только под воздействием такого психологического стереотипа множество образованных и умных людей оказалось готово к игре в общенациональные наперстки – в том числе к вложению денег под полторы тысячи процентов годовых.
Конец «второго среднего класса» растянулся на мучительный год. Он начался в декабре 1993 года в момент сокрушительного поражения «Выбора России» на первых парламентских выборах. Не гиперинфляция весны – лета 1993 года, не октябрьская гражданская война в Москве, а именно празднование «политического нового года», когда «партнеры» впервые, в прямом эфире и на глазах у всей страны осознали, что они и народ – это не одно и то же.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: