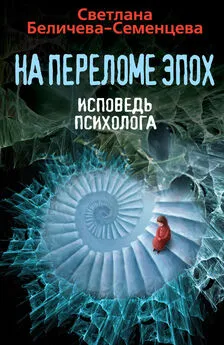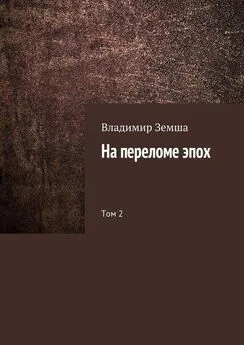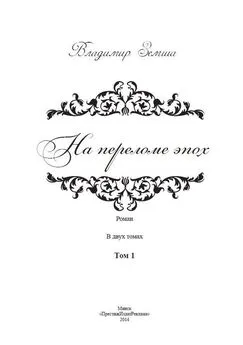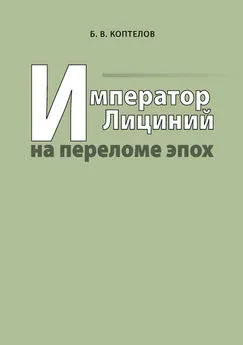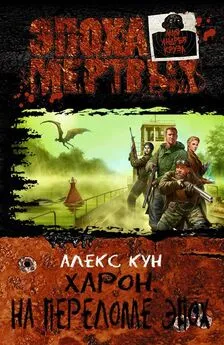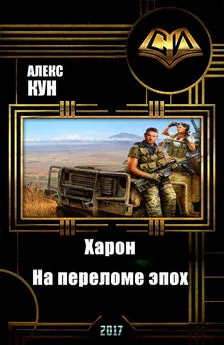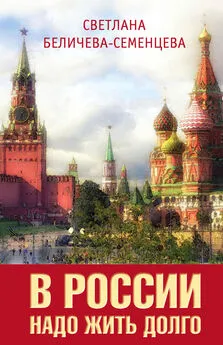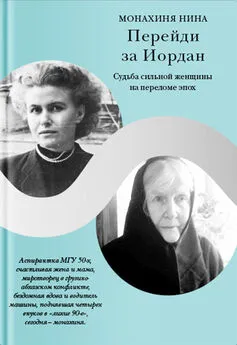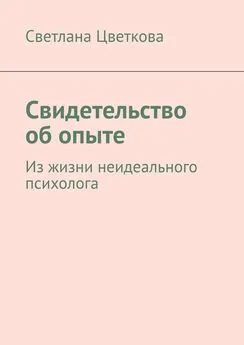Светлана Беличева-Семенцева - На переломе эпох. Исповедь психолога
- Название:На переломе эпох. Исповедь психолога
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Алгоритм»
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4438-0991-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Светлана Беличева-Семенцева - На переломе эпох. Исповедь психолога краткое содержание
Книга адресована тем, кому небезразлична судьба нашего детства, а значит, и будущее страны и нации.
На переломе эпох. Исповедь психолога - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Студенческие годы нашего поколения выпали на хрущевскую оттепель и тоже проскочили весело, безбедно и беззаботно, под песни Визбора и Окуджавы. Будущее также рисовалось в розовом свете, после окончания вузов мы получали направления и разъезжались по местам своей будущей работы. По месту назначения предоставлялась работа по специальности, и все бы ничего, но огорчали более чем скромные зарплаты и весьма туманные перспективы продвижения, для которого, помимо диплома и профессионализма еще, как выяснилось, нужен был и партбилет. А тут снова выяснялось, что доступ в партию интеллигенции также весьма ограничен и надо по-особому отличиться перед парткомом.
Наконец, отдельным счастливчикам удавалось проникнуть в эту самую партию и, оказывалось, что партии и парткому до всего есть дело. И без партийной характеристики-ходатайства ты не только не можешь продвигаться по службе, но и не можешь взять загранпутевку, получить квартиру, развестись с женой и вообще, ничего не можешь. Вспоминается мое первое партийное собрание профессорско-преподавательского коллектива Тюменского университета, где после аспирантуры я начала работать. Триста человек присутствующих на собрании с интересом выслушивали доклад председателя комиссии по персональному делу профессора с физфака, у которого, якобы, наклевывался роман со своей студенткой-дипломницей. Седовласый профессор, вытащенный для объяснений на трибуну, смущенно отнекивался, а с задней скамьи декан истфака его сурово, по-партийному, одергивал: «Ты давай не финти, скажи прямо, ты с ней прелюбодействовал?».
И как-то так получалось, что в парткомы подбирались люди, не блиставшие особыми талантами в науке и вообще в производственной деятельности, но при этом, имея непосредственную возможность влиять на карьеру своих более талантливых коллег, они проявляли чудеса изобретательности, чтобы помешать их продвижению. Да собственно никакой особой изобретательности и не требовалось. Выходит, допустим, молодой математик, заведующий кафедрой на защиту докторской и ему, естественно, нужна характеристика парткома. Так чего проще, проверить его кафедру по воспитательной работе в студенческих общежитиях и заслушать на парткоме! А поскольку у математиков традиционно не ладится с воспитательной работой, вот и готов заслуженный выговор, с которым никакой положительной характеристики не полагалось. И что из того, что несчастный математик сделал выдающееся открытие и уже признан в мире научных светил, – с отрицательной характеристикой он не может быть допущен к защите.
Помимо интрижек и отслеживания разных нарушений морального облика парткомы усердно занимались организацией изучения материалов Пленумов и Партсъездов КПСС. Эти материалы, в которых рапортовалось об очередных достижениях партии и народа, дотошно прорабатывались на собраниях партийными и беспартийными. Но вот что интересно, чем о больших достижениях рапортовали на партсъездах, тем меньше было продуктов и товаров в наших магазинах. Да и то, что было, увы, спросом не пользовалось, все изощрялись как могли, заводили блат, знакомства с торгашами и их родственниками, чтобы достать импорт. Вместо слова «купить» употреблялось «достать». И после партсобраний с очередным славословием в адрес партии и правительства, народ разбегался по кухням, где в тесных компаниях травились анекдоты типа «Пять противоречий социализма»:
Первое противоречие – Никто не работает, а план выполняют.
Второе – План выполняют, а в магазинах ничего нет.
Третье – В магазинах ничего нет, но у всех все есть.
Четвертое – У всех все есть, но все недовольны.
Пятое – Все недовольны, но все голосуют «за».
Лишенный возможности высказываться публично, народ перешел на своеобразный вид фольклора – анекдоты, в которых в юмористической форме вполне находили отражение и оценку внутренние и международные события.
И когда такие знаменитые и заслуженные люди, как академик Сахаров и писатель Солженицын сделали попытку высказаться публично, их тут же всенародно осудили и выслали. Одного – из страны, а другого, в виду того, что был носитель важных государственных секретов, в Нижний Новгород под бдительный контроль вездесущего КГБ.
Обсуждение и осуждение, конечно же, проводились в лучших советских традициях – «не знаю», «не слышал», «не читал», «но осуждаю». Однако на этот раз обсуждение и осуждение проходило как-то совсем без энтузиазма и даже раздавались кое-где робкие голоса отдельных любознательных товарищей «Дескать, нам бы почитать, познакомиться, чего там они пишут, а то как – то неинтересно обсуждать без ознакомления».
И тогда партийные идеологи, видя, что народ заскучал без печатного слова, предложили выпущенную миллионными тиражами трилогию, написанную, якобы, от первого лица о славном жизненном пути нашего кремлевского вождя времен застоя. Подробное описание жизненного пути Л.И. Брежнева в трех томах под названием «Возрождение», «Малая земля» и «Целина» тут же доморощенными остряками были переименованы в неприличные названия с аполитичным оттенком «Возражаю», «Земли мало», «Цель иная». Ох и докаркались злые языки, не прошло и десяти лет, как вновь избранный после нескольких траурных кремлевских процессий молодой и современно мыслящий генеральный секретарь заговорил именно так и выдвинул именно эти лозунги.
Но до этого времени еще надо было дожить, а пока, пока страна катилась в полный маразм, и казалось, выхода из этого нет.
Самый счастливый 1989-й
И все-таки, несмотря на все дефициты, самый острый дефицит, который испытывала интеллигенция, а ее за годы советской власти воспиталось немало, самый острый дефицит был информационный, Хранились в тайниках «Архипелаг Гулаг» Солженицына, «Жизнь и судьба» Гроссмана, с купюрами чуть не в полромана издан «Тихий Дон» Шолохова, недоступны были писатели эмигранты – и те, которые бежали в свое время из советской России, и те, кто позже были выдворены как диссиденты. Что говорить, если «Роковые яйца» и «Собачье сердце» моего любимого Булгакова мне давал Режиссер читать в варианте, перепечатанном на машинке, аккуратно переплетенном и тайно хранившемся в домашней библиотеке. Какой же поистине подвиг совершили Елена Сергеевна, вдова писателя и главный редактор журнала «Москва» Константин Симонов, когда в 1966–1967 годах опубликовали бессмертный булгаковский роман «Мастер и Маргарита». Да и знаменитый, издаваемый огромными тиражами «Тихий Дон» Шолохова, без купюр и сокращений мне удалось прочесть лишь в 2010 году, когда неожиданно в книжных развалах на Арбате обнаружила этот роман в 4-х толстенных томах, значительно по объему превосходящих те, что хранились у нас дома и которыми я зачитывалась в юности. Я, конечно, была удивлена этими объемными томами, пока не прочитала в предисловии, что это первое без купюр и сокращений издание «Тихого Дона» 2004 года.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: