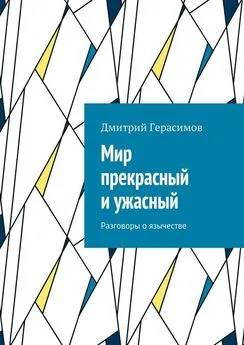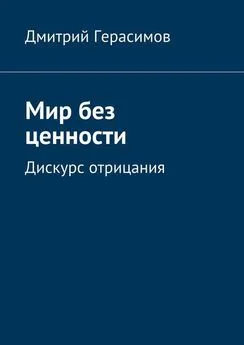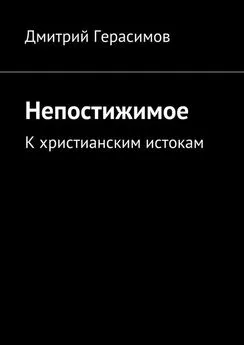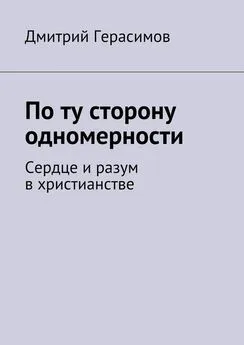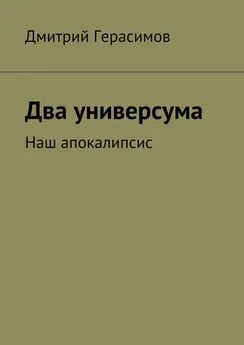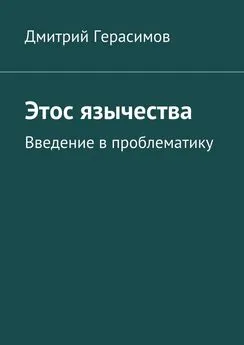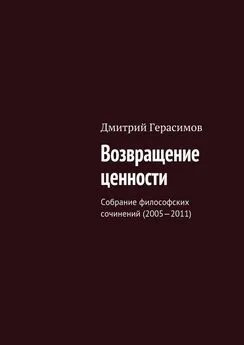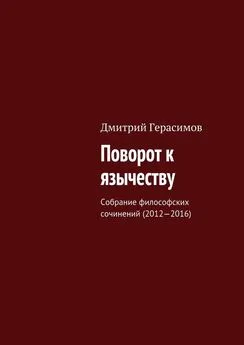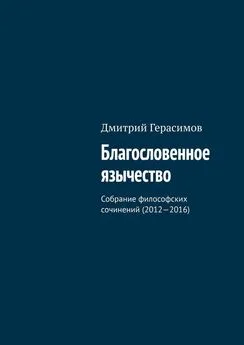Дмитрий Герасимов - Мир как ценность. Разговоры о язычестве
- Название:Мир как ценность. Разговоры о язычестве
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Ридеро
- Год:неизвестен
- ISBN:9785448360930
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Герасимов - Мир как ценность. Разговоры о язычестве краткое содержание
Мир как ценность. Разговоры о язычестве - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В отличие от иудео-христианства, язычество не живет в искусственном мире культуры, совершенно оторванном и противопоставленном миру природы. Напротив, в язычестве человеческая культура, социум, история являются продолжением космического мира природы и его «частью». Ценности – это не нечто, отличное от вещей (не отвлеченные «идеалы», обоснованные лишь «в себе»), а сами вещи – вещи, которые ценятся. В основе фундаментальных ценностей любой отдельно взятой культуры, составляющих ее уникальную особенность, лежит одна наиболее общая ценность, а именно ценность природной («от рождения») обусловленности вещей. Иначе говоря, ценность самой ценности (как способности к оценке), благодаря которой всякая культура существует. Обладать природой и означает обладать ценностью (в том числе культурной). Вот почему языческое возрождение не может рассматриваться в отрыве от глобальных природных изменений. Природа Земли меняется, ее изменения влекут за собой существенные перестройки в мышлении людей, восстанавливающие непосредственные отношения с живым миром (и как с «космосом» и как с «фюсисом»). Возрождая древние языческие культы (солнца, земли, стихий, рода), природное человечество действует в согласии с Землей как Живым Существом, в том числе, в полном соответствии с этикой «благоговения перед жизнью» христианского мыслителя XX века А. Швейцера. Язычество опирается не на «научные» представления о мире, а непосредственно на сам Мир как полное Жизни Существо, которое только в этом случае отвечает ему взаимностью, весьма разумно отметая противоприродные, дегенеративные наслоения «ценностно безразличной» паразитической цивилизации и восстанавливая в истории цветущий, ценностно насыщенный природный мир человеческой культуры.
В ходе неизбежного восстановления языческого универсума отнюдь не ценности (как некие «центры силы») меняются, а лишь наше отношение к вещам, которые ценятся! Ведь ценности – это не смыслы или значимости, которые можно было бы произвольно менять, трансформировать, «постигать», а, повторим это, сами вещи , которые не подлежат какому-либо изменению. К примеру, родину (поскольку она ценится) изменить нельзя, но можно изменить свое отношение к ней, как к ценности. Такое отношение может стать более интенсивным и устойчивым (менее опосредованным какими-либо смыслами), или наоборот, более слабым, «мерцающим» (рационально отфильтрованным, доказательно «осмысленным»). Таким образом, проблема не только в ценностях (или вещах), или в природе , а и в нашей «субъективной» способности ценить, в том, насколько она развита и вообще самостоятельна по отношению к другой «субъективной» человеческой способности – способности к мышлению.
Смысл не выражает природу (порыв, жизнь, желание), он выражает мир как космос, порядок, взаимозависимость и подчиненность. Здесь абсолютная граница для смысла, его «предел». Чистый смысл, чистая логика – это мир без природы, без воли. Мир, обращенный против себя, мир гибнущий, деградирующий, распадающийся и разлетающийся, подверженный всеобщей «энтропии» – это мир, подчиненный исключительно смыслу, «необходимости». Напротив, именно ценность выражает собой природу (безотносительность, внутреннюю непосредственную данность каждой вещи для самой себя), т.е. ту часть существования, которая не подчиняется смыслу и которая «стягивает» мир невидимыми силовыми нитями воли. Воля движима ценностями, «силой притяжения» вещей. Можно сказать, ценности – это тяготение вещей и мира в целом, некий аналог физической силы притяжения, но применительно к сознанию. Причем каждая вещь обладает той или иной степенью тяготения (и, следовательно, пробуждения сознания). Благодаря смыслам мы, напротив, можем отгораживаться и отталкиваться от этой силы притяжения, зависать в пустоте и невесомости логического («третьего») мира, т.е. безразлично к любым вещам. И таким образом перемещаться, не врастать целиком в ту или иную вещь, по сути, становясь ею, или тотально (до полной неразличимости) поглощаясь ею, а «скользить» в сознании от одних вещей к другим – от одних ценностей к другим. Различные ценности образуют разные «ландшафты» мира, каждое «место» вселенной населено своими собственными ценностями. Различные ценности – как звезды, созвездия и галактики, как самостоятельные центры и источники бесконечной силы. Каждая звезда бесценна и достойна ее посещения. Мир в целом – это бесконечное созвездие таких центров и источников силы притяжения («плюриверсум»). Но полное отгораживание смыслом от притяжения вещей (гипертрофия разума в ущерб переживанию), в конце концов, всегда оборачивается выпадением из мира – от «страдания» и «поиска смысла жизни» до полного «небытия», абсурда, разрушенной логики, конца сознания и существования. Вот почему так важно сохранять равновесие наших способностей (мышления и переживания, веры и воли). Потому что только через это равновесие реализуется жизнь мира и его вечное возвращение. Потому что только так мы пребываем в гармонии с миром. Это и есть язычество.
Поэтому, между прочим, стоит отметить, что так называемых плохих христиан , слывущих в жизни настоящими язычниками, нельзя относить к язычникам. В отличие от библейской религии, язычество отличается не абстрактной (догматической) «цельностью», а единством ценностного восприятия. Вот почему если рассматривать «двоеверие» не в конфессиональном, а в ценностном отношении, то оно оказывается не соединением (или объединением) христианства с язычеством, а самим христианством. Ведь христианство по своей сути и есть не что иное, как укоренившийся раскол, разделение, крайняя поляризованность и противопоставленность. Христианин по определению движется в линиях расщепленного сознания, никакой единой и целостной реальности для него не существует и существовать не может. Мир с самого начала оказывается для него разделенным на «внутреннее» и «внешнее», «творца» и «тварь» и т.д., на (1) отношение к смерти (с иудео-христианской диалектикой греха, спасения и воскресения) и отличаемое от него и неизбежно-попускаемое «языческое» (2) отношение к жизни со всеми заключенными в ней радостями и горестями.
В противоположность этому, в язычестве и жизнь и смерть принадлежат одному миру и обладают одной нераздельной ценностью. Языческий Герой, не страшась смерти, преодолевает жизненные препятствия, потому что смерть (наряду с жизнью) не является для него чем-то, отличным от существующего мира, и, во всяком случае, ничем «не хуже» жизни, поскольку всегда является началом новой жизни. В отличие от христианского «святого», погибая, языческий Герой не нарушает божественного (священного) порядка мира, а напротив, наиболее полно воплощает его в себе, даже смертью своей говоря торжественное «Да» миру! Героическое значит совершенное по природе – именно в героическом природа достигает своего совершенства . Путь Героя, вступающего в светлую обитель Богов, и действующая природная стихия – это одно и то же…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: