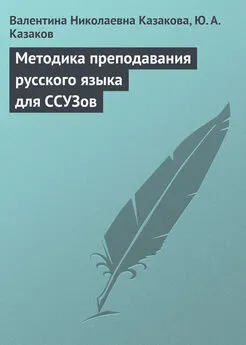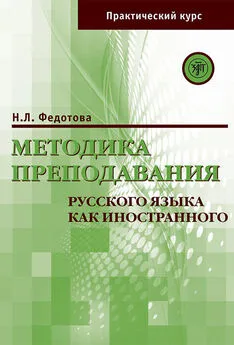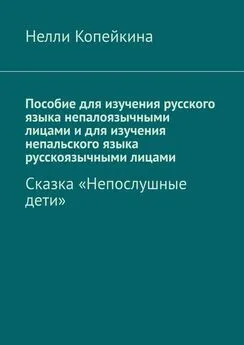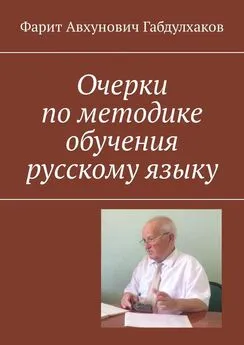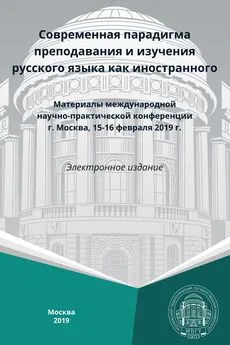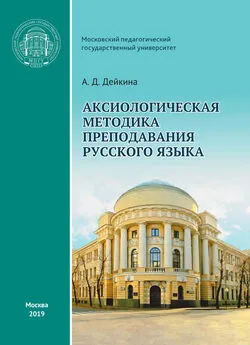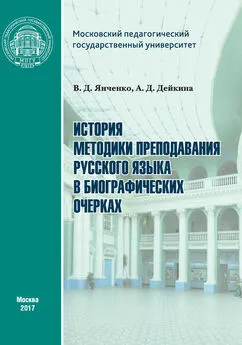Надежда Шапиро - Дети и тексты. Очерки преподавания литературы и русского языка
- Название:Дети и тексты. Очерки преподавания литературы и русского языка
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:978-5-7598-2203-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Надежда Шапиро - Дети и тексты. Очерки преподавания литературы и русского языка краткое содержание
Издание адресовано прежде всего учителям русского языка и литературы и студентам педагогических вузов, но может быть интересно также родителям школьников и всем любителям словесности.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет.
Дети и тексты. Очерки преподавания литературы и русского языка - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Попытки учеников в основной части сочинения отдельно рассматривать композицию и основные образы, отдельно лексику, отдельно синтаксис и т. п. редко оказываются удачными – приходится на малой площади сочинения несколько раз возвращаться к одним и тем же строкам, комментируя их с разных точек зрения, и почти неизбежно возникает ощущение повтора, топтания на месте. Лучшее впечатление производят работы, где сразу же обсуждается композиция стихотворения, основные его части и образы, связь между ними – уподобление, контраст и т. п. – и дальше рассматривается каждая из частей со всем комплексом ее особенностей. А в заключении делается вывод, не повторяющий, но развивающий мысль вступления.
Приведем пример сочинения, которое мы считаем не идеальным, но удачным:
Анализ третьей части стихотворения С. Есенина «Сорокоуст».
Стихотворение построено на столкновении двух образов: паровоза – символа жизни новой, прогресса, индустриализации (ср. чуть позднее написанное «Наш паровоз, стрелой лети…» В. Маяковского) – и символа весны, природы, деревни – молодого жеребенка. Есенин взял тему из готовой формулы, своеобразного лозунга, современного ему: «Стальной конь вскоре вытеснит крестьянскую лошадку» (имелся в виду трактор).
Первым появляется поезд, выплывая из дыма и тумана, появляется шумно, «железной ноздрей храпя». Это не обязательно стальной конь, скорее какой‑то зверь из металла «на лапах чугунных». В противовес тяжести и неприятному звучанию согласных, создающих этот образ (ЖелеЗной ноЗДРей ХРаПя, // На лаПаХ ЧугунныХ ПоеЗД), в стихах о жеребенке звучание очень легкое, открытое: «КАк нА прАзднике ОтчАЯнных гонок». Если сначала ритм постоянно убыстряется от «зависающего» «Видели ли вы» к резкому и четкому последних строк первой строфы, то во второй строфе он нарушается словом «закидывая», словно изображается неловкость жеребенка в беге. И строчка «Тонкие ноги закидывая к голове» оказывается выделенной – в ней вся хрупкая прелесть и несуразность живого. Еще одна важная перекличка: поезд «бежит по степям», жеребенок «по большой траве… скачет». Выражения более или менее синонимичные, но «поменяться местами» не могут: сказанное о жеребенке – живее, «свежее» и конкретнее, несет больше информации, например, о времени года и даже месяце – до сенокоса – и не подходит для паровоза.
Комизм ситуации заключается в том, что соревнование одностороннее: глупый жеребенок резвится и играет с поездом, воплощением неживой механики, которому игра чужда. Он так и назван: «Милый, милый, смешной дуралей». Однако следом – жесткие слова, полные настоящего трагизма:
Неужель он не знает, что живых коней
Победила стальная конница?
Здесь противопоставлено живое и металлическое уже прямо и резко. Кони – множество отдельных животных, конница – одно целое, да еще и военное. После разговорного стиля с характерным повторением – то умиленным, то тревожным: «милый, милый», «куда он, куда он» следует практически штамп, плакат. И молодой жеребенок начинает восприниматься как анахронизм, это ощущение особенно усиливается повторяющимися словами «неужель он не знает» (то есть «еще не знает») и показанной картинкой из «той поры», которой «не вернет его бег». Тогда «пару красивых степных россиянок отдавал за коня печенег», теперь «за тысчи пудов конской кожи и мяса покупают… паровоз». Последние строки – первое в этом стихотворении утвердительное предложение, и некоторая условность, предположительность ситуации здесь однозначно снимается.
Однако главное то, что подвергся изменению образ коня, впервые он здесь неживой, лишенный эстетической привлекательности, разорванный на части: «кожа и мясо». Страшная гипербола, даже гротеск, разрушая хрупкую гармонию, завершает стихотворение про судьбу Родины и прежней жизни.
В этой работе можно заметить отсутствие четкого вступления, стилистические шероховатости, несколько вольное обращение с терминами, особенно в последнем предложении. Некоторые учителя к перечисленным недостаткам добавят сухость, невыраженность личного отношения. С этим трудно согласиться. Настойчивое требование эмоциональности, «собственного мнения» часто приводит к тому, что ученики либо завершают свои работы довесками вроде «мне очень понравилось, произвело большое (неизгладимое) впечатление», либо уснащают текст восклицаниями-похвалами («С каким непередаваемым мастерством!..») – формально условие эмоциональности выполнено, а искренность в перечень необходимых качеств, к счастью, не входит. Не лучше и отважное «мне не понравилось» – доказательством этого тезиса, вероятнее всего, станет не анализ стихотворения, а сообщение о вкусах автора сочинения. А толковый анализ сам по себе свидетельствует если не о любви к данному стихотворению или поэту, то о понимании поэтического слова, любви или хотя бы интересе к нелегкому занятию – чтению стихов.
А вот требование речевой правильности и стилистического единства сочинения – особый разговор.
Как совместить эмоциональность и использование терминов? Видимо, единого рецепта здесь нет. Нужно только обратить внимание учащихся на то, что эта проблема существует, показать им примеры вопиющей стилистической несовместимости (вроде такого: « метафоры в деепричастном обороте исполнены пронзительной грусти ») и дальше надеяться на их вкус и чувство меры. Если в работе преобладает интонация трезвого анализа, термины не помешают. А если автор стремится к большей речевой и эмоциональной свободе, он должен ограничить их употребление. В этом случае сочинение выглядит более легким и непринужденным – но оно и более уязвимо: строгий учительский взгляд непременно обнаружит в нем речевые ошибки, и чем самостоятельнее работа, тем вероятнее в ней то количество речевых ошибок, которое ведет к снижению оценки (кажется, среди вышеприведенных примеров из ученических работ нет ни одного стилистически безупречного). Так что возникает проблема уже для учителя. И если он чувствует внутренний разлад – сочинение нравится, а долг (наука) велит осудить, – стоит вспомнить Пушкина, не любившего «уст румяных без улыбки» [21] Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: в 10 т. Т. 5: Евгений Онегин. Драматические произведения. 4‑е изд. Л.: Наука, Ленингр. отд‑е, 1978. С. 59.
, и победить в себе педанта.
Вот фрагмент работы, написанной десятиклассницей за урок, о стихотворении Н. Некрасова «Надрывается сердце от муки…»:
Некрасов обращается к излюбленной теме свободы и, соответственно, несвободы – от «царящих звуков барабанов, цепей, топора» он переходит к «простору свободы», связанному с природой. Но как осуществляется этот переход? Первое четверостишие – о внутреннем разладе героя (тоже, кстати, присущем Некрасову), о добре и зле, о несвободе. Слово «топора», упавшее в конце последней строки этого четверостишия, «покрывает» его собой и отрезает путь к рифмующемуся с ним «добру».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: