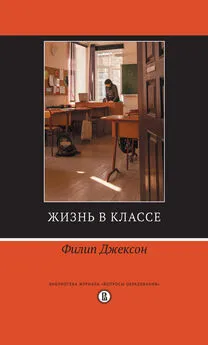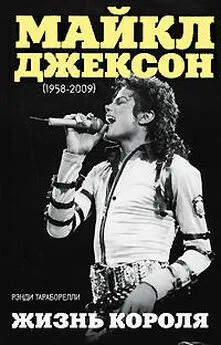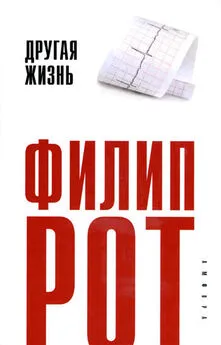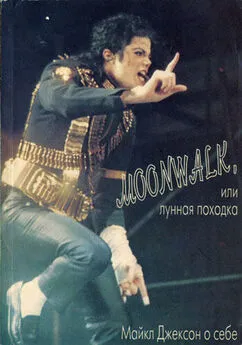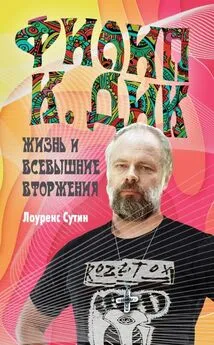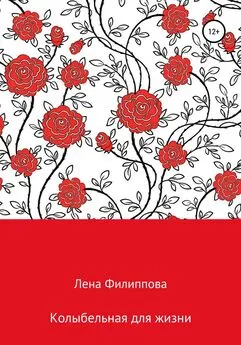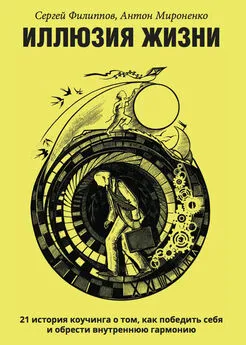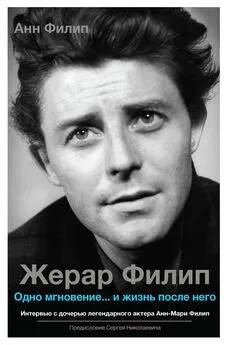Филип Джексон - Жизнь в классе
- Название:Жизнь в классе
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Высшая школа экономики»
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-7598-1322-4, 0-8077-3034-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Филип Джексон - Жизнь в классе краткое содержание
Книга адресована педагогам, администраторам, исследователям образования и всем, чья ежедневная работа связана со школами и происходящим в классах.
Жизнь в классе - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Уайт говорил об интерпретации, как и о постоянном сомнении исследователя при описании интересующего его объекта [7] White H. The Rhetoric of Interpretation. P. 2.
. Я думаю, что он подразумевал следующее: любой интерпретатор искренне увлечен предметом своего изучения, но в то же время скептически настроен по отношению к тому, что другие до него уже сказали об этом. Иными словами, объект изучения полон загадок для его исследователя, независимо от того, насколько он обычен и прост. Уайт говорит и о недоверии к использованию стандартных и привычных терминов для описания и объяснения того, что изучается. Интерпретатор вынужден отказаться от привычного способа описания, от точного и специального языка, в пользу более метафоричной речи, которую Уайт называет «техники иносказательности» [8] White H. The Rhetoric of Interpretation. P. 2.
.
Я не замечал, что использую в своей речи метафоры и образы, когда заговаривал о том, свидетелем чего в классе был сам, но теперь понимаю, что когда мысленно ухватывался – а это происходило нередко – за определенное событие, лицо или обрывок разговора, подслушанный в классе, я воспринимал свой объект как символ происходящего и поэтому осмысливал его образно, а не буквально. Примером может быть тот же образ учеников, поддерживающих свои поднятые руки, призывая к себе учителя или пытаясь обратить на себя его внимание. Как уже было сказано, в этом нет ничего необычного. Такое происходит постоянно в каждом классе. При буквальном рассмотрении это просто сигнал, значение которого не вызывает сомнений. Однако если взглянуть иначе, то это символ, означающий нечто большее, чем простое стремление ученика добиться внимания учителя: поддерживаемая рука сигнализирует о том, что класс переполнен. Можно даже сказать, что это олицетворение неизбежного, кристаллизация предстоящего. Со временем именно эта тема и стала предметом моего исследовательского интереса.
Показав, как понятие «интерпретация» помогает объяснить характер моей исследовательской деятельности, я хочу несколько слов уделить моей тревоге, источником которой было нечто, похожее на чувство вины за неготовность пожертвовать собой ради одной или нескольких насущных на тот день проблем образования. Надеюсь, читателю это будет интересно. Грубо говоря, суть в следующем: если анализ происходящего в классе прямо не отвечает на вопрос о том, как может быть улучшено качество преподавания или как лучше справляться с классом, то зачем этим заниматься?
Ответ на этот вопрос опирается на убеждение, что умение видеть одно и то же по-разному, в классе или где-нибудь еще, открывает простор для интерпретации нашей реакции на окружающую реальность. Непредвзятость восприятия, гибкость мысли, новизна действий взаимосвязаны, даже если такая взаимообусловленность неочевидна и не подтверждена. Это одинаково верно и для науки, и для искусства, где озарение меняет видение мира.
Как же происходит такое озарение? Бесспорно, по-разному. Применительно к тому, о чем я пишу, оно является в том числе и результатом обобщения наблюдаемого в классе и приложения к происходящему опыта из других областей повседневной жизни.
При исследовательской деятельности в области образования очень важно просто внимательно наблюдать и пытаться осмыслить то, что видишь. Узаконив этот способ, можно решить не одну из гнетущих образование проблем. По крайней мере, это верно до тех пор, пока цель простого внимательного наблюдения – достижение обновленного понимания того, что воспринималось как само собой разумеющееся. Однако неправильно полагать, что следует отказаться от поисков ответов на многие вопросы, досаждающие практикам. Это было бы безрассудным. Какими важными ни были бы проблемы интерпретации происходящего в классе, не каждому стоит к ним обращаться, как не каждому стоит посвящать себя педагогической практике.
Перечитывая «Жизнь в классе», чтобы написать это введение к переизданию книги, я обратил внимание на две особенности, которым прежде не придавал особого значения, хотя они отвечают сути того, о чем я здесь говорю. Одна касается сентенций, предпосланных главам I и V. Первая сентенция принадлежит Теодору Рётке, вторая – Уолтеру Теллеру. Обе посвящены важным и опускаемым мною в свое время мелочам, которые теперь представляются мне знаменательными. Рётке хочет, чтобы мы понимали, что установления, упрощающие практики, могут негативно сказаться на нас, поэтому следует сопротивляться этой тенденции. Теллер отмечает, что тривиальное помогает раскрыть возвышенное. Оба наблюдения соответствуют задаче глав, которые они открывают, однако речение Теллера лучше выражает то, что я чувствовал в течение моих первых месяцев работы в классе. Сейчас я сформулировал бы это так: за привычным лежит экстраординарное. Понимание этого пришло только годы спустя. И теперь эта истина является для меня основополагающей.
Вторая особенность привлекла мое внимание, когда я перечитывал начальный абзац предисловия к первому изданию этой книги. Рассуждая о задачах и адресате книги, я написал о том, что «ее цель – просто пробудить интерес читателя и, возможно, вызвать его обеспокоенность кое-какими проблемными аспектами школьной жизни, на которые, как мне представляется, обращают внимания гораздо меньше, чем они того заслуживают». Мой взгляд привлекло предложение с двумя инфинитивами – «пробудить» и «вызвать». Значение обоих слов связано с необходимостью выйти из состояния покоя и взбодриться. Повторюсь: я не думаю, что понимал это и раньше, но сейчас вполне отдаю себе отчет в том, насколько уместны эти глаголы для описания первых месяцев моего наблюдения. Ведь именно тогда я пробудился, чтобы по-новому взглянуть на происходившее в тех классах, которые посещал. И моей целью было вызвать такое же состояние у читателей.
Хочу прояснить для моего читателя и кое-что еще, кроме заявленной и ускользавшей от меня ранее цели этой книги. Я вижу, что мне не удалось избежать некоторой противоречивости как в первых параграфах, так и в книге в целом. Предложение, процитированное мною выше, противоречит тому, что предшествует ему в предисловии, где сказано: «Цель этой книги не в осуждении школы и не в ее воспевании, и даже не в стремлении ее непременно изменить». А далее я незамедлительно упоминаю кое-какие проблемные аспекты школьной жизни, которым уделяется гораздо меньше внимания, чем они того заслуживают. И это звучит так, будто у меня есть соображения о том, в каких изменениях нуждается наша школа. Книга изобилует такого рода противоречиями. Это относится и к эпиграфам из Блейка и Рётке. Оба сильно критикуют школу. Блейк говорит, что посещение школы отнимает всякую радость. Рётке одобряет молодежь, противостоящую упрощенным практикам и институциям. И если я не был ни противником, ни защитником школ, как утверждал, то почему использую как эпиграфы такие убийственные для школы сентенции?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: