Жан-Клод Грюмбер - Дрейфус... Ателье. Свободная зона
- Название:Дрейфус... Ателье. Свободная зона
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Текст, Книжники
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978-5-7516-0858-3, 978-5-9953-0083-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Жан-Клод Грюмбер - Дрейфус... Ателье. Свободная зона краткое содержание
Дрейфус... Ателье. Свободная зона - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Сам-то Жан-Клод Грюмбер как раз отказываться не желает, точнее, находит следы идиша. Десять лет спустя после «Ателье» воспоминания об отсутствии отца и коллективная память приводят его к театральному спектаклю, и достоинства стиля залечат рану, преломив боль в драматургию. Это рана целого поколения, которая в «Свободной зоне» эхом отзовется ради установления связей преемственности.
Кто такой еврей? В своем тоталитарном безумии нацисты не только задались этим вопросом; их решение состояло в том, чтобы навсегда его закрыть, очистив землю от всякого следа еврейской самобытности. Ставить еврейский вопрос или вопрошать о еврейском способе существования — разные вещи. Первый из этих терминов свидетельствует о нарушении прочного единства человечества и относится к сущностным изысканиям; второй термин относится скорее к проблемам культуры. Во всем разнообразии своих ситуаций еврейский способ существования базируется на ответственности по отношению к Другому и на соотнесении с Книгой; это условие — также продукт истории.
Драматургия Жан-Клода Грюмбера открывает дверь в Идишланд двумя ключами: с помощью персонажа Дрейфуса, каким он представляется еврейскому сознанию, и с помощью еврейского театра, каким он был в начале века. Капитан Альфред Дрейфус — вне всякого сомнения, персонаж нового времени, который лучше всего воплощает собой способ использования еврейской самобытности для превращения ее в предмет коллективного фантазма. Персонаж этот ускользнул как от защитников своих, так и от хулителей. Образ Дрейфуса отделился от своего прообраза и превратился из картинки в зеркало, отразившее изъяны общества. Из капитана и еврея Дрейфус превратился в воплощенный ответ на вопрос: «Что значит быть евреем?»
Вымышленный Дрейфус становится для Жан-Клода Грюмбера проводником в Идишланд. И образ этот будет соответствовать тем представлениям, которые сложились о нем у персонажей «Дрейфуса…» — еврейских актеров тридцатых годов. Двойное опосредование приводит к разнообразным и плодотворным результатам.
Встреча еврейского театра и Дрейфуса происходит не без ссылки на Шолом-Алейхема, основателя литературы на идише. В коротком рассказе под названием «Дрейфус в Касриловке» Шолом-Алейхем описывает потрясение, постигшее вымышленный городок Касриловку, когда до его жителей долетел слух о деле Дрейфуса [4] Рассказ «Дрейфус в Касриловке» был опубликован на французском языке в сборнике под названием «Заколдованный портной и другие новеллы» (Альбен Мишель, 1960). Этот короткий (шесть страниц) рассказ — часть цикла о мифическом местечке Касриловка, опубликованного в различных органах еврейской периодической печати между 1901 и 1915 годами. Новеллы были собраны и переведены на французский язык в сборнике «Люди Касриловки» (Жюльяр, 1992).
. Как и любое другое местечко в самом начале XX века, Касриловка почти не имела никаких связей с внешним миром, миром гоев в буквальном смысле этого слова. Когда жители Касриловки узнали, что в Париже будто бы осужден еврейский капитан, они вначале не проявили к этому особого интереса. И действительно, что им за дело до какого-то пусть и еврея, но шпиона, который выдал государственные секреты иностранному государству?
Новшество Жан-Клода Грюмбера состоит в том, что он перемещает зеркало из начала XX века в тридцатые годы. В начале XX века евреи еще жили в тесном, конформистском мирке, замкнутом на самом себе. Штетл изолирован от внешнего мира как физически, так и духовно. Однако в первой четверти XX века все изменилось кардинально. Падение Австро-Венгерской империи, большевистская революция, зарождение фашизма и новая волна антисемитизма, экономический кризис — все это изменило перспективы евреев из местечка, и в определенной степени Идишланд — уже на пути к крушению. Жители Касриловки, «мелкий люд», как их называет Шолом-Алейхем, живут в состоянии «большой паники», но не могут поверить в осуждение Дрейфуса.
У персонажей «Дрейфуса…» уже другие представления. Будучи еврейскими актерами, они, подобно близкому другу Кафки Леви, о котором Кафка пишет в своих дневниках, пришли на сцену театра прямо из религиозной еврейской школы. Продолжая жить в местечке, они вместе с тем существуют уже в современном мире и на себе испытывают его потрясения. Каждый из них по-своему представляет себе Дрейфуса и по-своему к нему относится, проецируя на свои представления собственное видение мира и собственные ожидания. Жителям еврейского городка тридцатых годов фигура Дрейфуса видится неоднозначной. Исполнителю роли Дрейфуса и его товарищам она представляется двойственной: капитан с одной стороны, еврей — с другой. По отдельности обе грани понятны, но соединение их в одном персонаже немыслимо для этих евреев-антимилитаристов.
Актеры репетируют пьесу, но ей не суждено быть сыгранной, ибо движение жизни окажется сильнее событий театральных. Автор пьесы и режиссер Морис бросит свою затею — не потому, что не получит от нее художественного удовлетворения, но потому, что его ждет другая затея — политическая. В письме, которое он напишет своим бывшим актерам в 1931 году, Морис объявит, что отказывается воскрешать прошлое в художественных целях и предпочитает включиться в пролетарскую революцию. Забвение религии ради пролетарской революции было одним из распространенных путей для тысяч евреев в Восточной Европе. Морис меняет иллюзии артистические на иллюзию иного свойства: ту, достижение которой делает возможным большевистская революция.
Взгляд Жан-Клода Грюмбера на последних представителей театра, блиставшего по всей Европе в двадцатые годы, в значительной степени совпадает с комментариями Кафки по поводу труппы его друга Леви, который познакомил его с театром на идише в 1911 году в заднем помещении некоего кафе, обладавшего сомнительной репутацией [5] Батист-Марей в «Тележке Эстер» (Акт Сюд) на основании текстов Кафки и свидетельств Рудницкого восстанавливает отношения Кафки с еврейским театром.
. Та же нежность с долей иронии по поводу наивности театральных эффектов, тот же сочувственный взгляд, окрашенный «жалостью, которую мы испытываем к этим прекрасным актерам, которые не только ничего не зарабатывают, но даже и должной благодарности и заслуженной славы не получают» [6] Кафка. Дневники.
. И совершенно очевидно — как для Кафки, так и для Жан-Клода Грюмбера, — что это сочувствие вызвано, как пишет Кафка, «печальной судьбой стольких благородных помыслов, наших, прежде всего».
В начале тридцатых годов театр на идише осужден на вымирание: в Советском Союзе, где вот уже несколько лет как торжествует тоталитаризм, он становится предметом сталинского недоверия. Подспудное присутствие этой мысли в пьесе Жан-Клода Грюмбера как раз и придает ей актуальность и убедительность. Дело в том, что в 1974 году, когда был написан «Дрейфус…», многие интеллектуалы во Франции еще продолжали верить в благотворность социализма в СССР. Проницательность Жан-Клода Грюмбера позволяет нам усмотреть в самой драматургической конструкции его пьесы «истоки иллюзии», явление, которое проанализирует Франсуа Фюре двадцать лет спустя. Истребление еврейской культуры в Советском Союзе — пока что непризнанный факт, точно так, как остается неизвестным огромное влияние театра на идише в двадцатые годы, в период поиска новых форм. В «Дрейфусе…» содержатся отголоски этих проблем, тем более важные, что в семидесятые годы наблюдается явное возрождение надежд и иллюзий, связанных со способностью театра повлиять на преобразование общества и изменение жизни. И эти ожидания и надежды семидесятых придают особый смысл размышлениям всех персонажей «Дрейфуса…» о роли театра.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
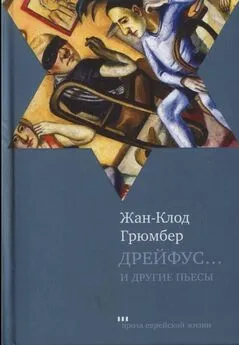


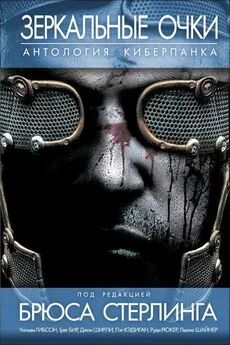
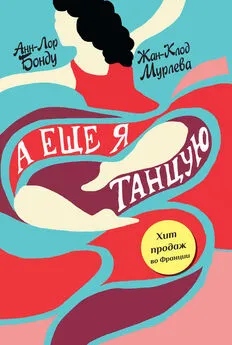
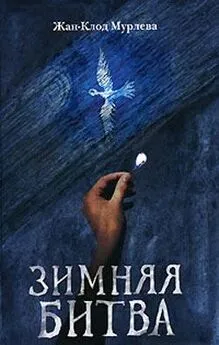
![Жан-Клод Ларше - Исцеление психических болезней [Опыт христианского Востока первых веков]](/books/1097564/zhan.webp)
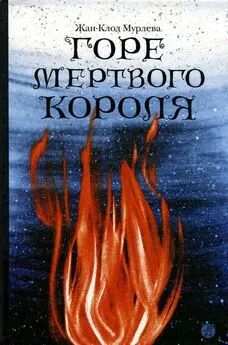
![Жан-Клод Грюмбер - Самый дорогой товар [Литрес]](/books/1144426/zhan-klod-gryumber-samyj-dorogoj-tovar-litres.webp)
