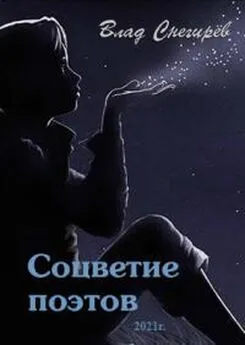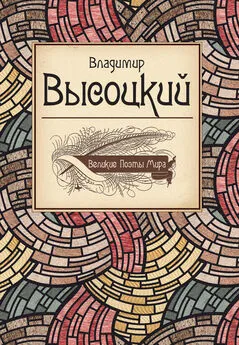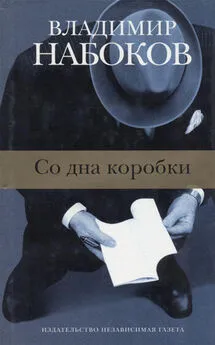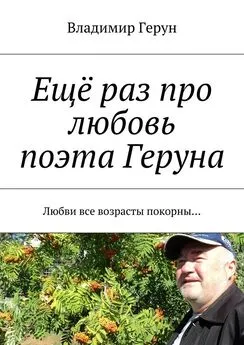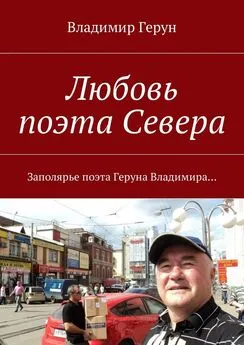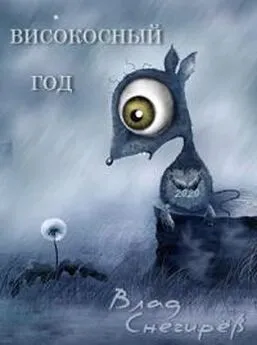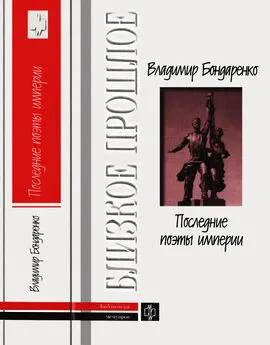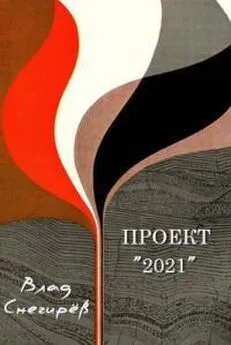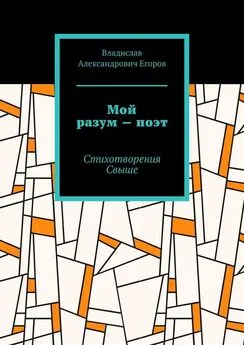Влад Снегирёв - Соцветие поэтов
- Название:Соцветие поэтов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2021
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Влад Снегирёв - Соцветие поэтов краткое содержание
и лица тех, кто нам идёт на смену.
А жизнь всегда по-новому светла,
стихам я знаю подлинную цену.
Пусть встанет память прошлых, светлых дней
у твоего заветного порога.
Россия помнит всех своих детей
и любит их задумчиво и строго.
«Петрарка писал: „Я не хочу, чтобы меня через триста лет читали. Я хочу, чтобы меня любили”. Нет другой страны, где так любят и ценят писателей, как в России. Здесь считают, что поэты мыслят стихами. И если вы, мои читатели, исполните мою просьбу и полюбите тех, о ком здесь написано, вы обязательно подарите им временное бессмертие, а мне сознание, что я не напрасно жила на этом свете».
Татьяна Лестева
Эта подборка поэтов в чём-то субъективна. В ней наряду с известными поэтами, о которых написано много книг, есть и такие, которые в наше время „не в теме”, не в „формате”… Их не просто хотят замолчать, их хотят забыть навсегда. Но дело в том, что, как сказал ещё Ломоносов: „Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего”. Правители приходят и уходят, а поэзия остаётся.
Автор стихотворений о поэтах - Влад Снегирёв.
Каждый из авторов статей указан в конце соответствующей статьи.
Соцветие поэтов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В ноябре 1919 года Цветаева отдаёт обеих девочек в Кунцевский приют. Ей рассказали, что там хорошие условия, питание, лечение – и с лёгким сердцем она отправила детей за город, поверив говорящему на слово. С Алей она условилась, что та не будет называть её матерью – скажет, что Марина – её крёстная. С Ирой было проще – ей никто не занимался, и она практически не умела говорить. Так ли был необходим этот опыт, за который Аля заплатила тяжёлым заболеванием, а Ира – жизнью?
Для обеих девочек приют оказался адом. Еды там практически не было, никакого медицинского сопровождения тоже. Когда Аля заболела от тоски и голода, Марина приехала к ней – и своими глазами увидев, чем кормят детей и как к ним относятся, наконец-то забрала оттуда свою чудо-девочку. Маленькую Иру оставили умирать – более того, запретив сёстрам Эфрон, с которыми отношения на тот момент были не самые лучшие, взять малышку из приюта и выходить её самостоятельно.
Лилия уже брала Иру к себе и очень её любила, её возмущало отношение Марины к этому ребёнку. А Марина ухаживала за Алей, составляла поэтический сборник, писала длиннейшие письма друзьям и блестящие стихи, принимала гостей, – в это время Ирина тихо угасала от голода и слабости.
Впоследствии Марина «перепишет» прошлое – и окажется, что она в одиночку самоотверженно спасала старшую дочь – и потеряла младшую. К сожалению, эту версию, с радостью принятую рядом цветаеведов, полностью опровергают цветаевские дневники и письма, неопровержимо доказывающие, что про Ирину просто забыли, потому что и не хотели вспоминать.
«Я столько раз хотела жить и столько умереть!»
Белая гвардия, путь твой высок:
Чёрному дулу – грудь и висок
Бури-вьюги, вихри-ветры вас взлелеяли,
А останетесь вы в песне – белы лебеди!
В большевистской Москве Марина читала эти стихи, безоглядно, как всё, что делала. В Белой гвардии, «Лебедином стане», сражался Сергей Эфрон, о котором уже столько времени не было никаких известий. А 11 июля 1921 она получила письмо от мужа, эвакуировавшегося с остатками Добровольческой армии из Крыма в Константинополь, а теперь живущего в Праге и ставшего там студентом. Он ждал их с Алей. Про смерть Ирины он уже знал.
Как ни удивительно, но все формальности были улажены, и Аля с Мариной смогли выехать (в то время как многим выезд из страны был просто запрещён). В эмиграции – сперва в Чехии, а позже во Франции – было нелегко. Нищета, общая неустроенность (хорошо хотя бы, что и Марина, и Аля с детства прекрасно говорили на французском), безбытность и нервозность, усугубляющаяся тревогой о завтрашнем дне.
Тем не менее жизнь как-то налаживалась. Друзья-эмигранты как могли помогали, муж был рядом, любовь не заставила себя долго ждать. И всё же не было ни покоя, ни радости. Родился сын, долгожданный, любимый с самого начала. Его назвали Георгием, домашнее имя – Мур. Жить стало ещё сложнее, тем более что найти себя в мирной жизни Сергей Эфрон так и не сумел и впал в глубокую депрессию. Всё чаще перед ним вставал вопрос: а правильно ли был сделан выбор, на ту ли сторону он встал, уйдя в Добровольческую армию.
Примерно в это же время в СССР была сделана ставка на показательное возвращение эмигрантов домой и «искупление их вины перед Родиной» за рубежом. И многие действительно возвращались, мало зная о настоящей жизни в Стране Советов.
Эфрон постепенно стал коммунистом-фанатиком, а позже – тайным агентом НКВД. С раскрытием ряда документов это факт, ранее существовавший лишь как гипотеза, нашёл подтверждение, кроме того, сам Сергей Яковлевич, и его дети, и его жена ничуть этого не отрицали. Ариадна Эфрон в последние годы своей жизни обращалась в КГБ с просьбой увековечить имя её отца, Сергея Эфрона, на мраморной доске в холле Лубянки, где высечены имена погибших выдающихся разведчиков.
В доме появились деньги. Конечно же, Марина не могла не знать об их происхождении – более того, по воспоминаниям, после отъезда мужа она сама приходила на явочную квартиру НКВД за пособием...
Официально Эфрон помогал проводить через Францию добровольцев в Испанию, на Гражданскую войну. Но этим не ограничивалось: группа занималась и похищением людей (например генерала Миллера), и прямым устранением тех, кто был сочтён опасным для коммунистической России или неприятен лично Сталину. О ряде операций, проведённых группой с его участием, Сергей Яковлевич рассказывал своим детям. После одной из них – убийства беглого разведчика И. Рейсса, – Эфрону пришлось спешно покинуть Францию. «Операция» была проведена провально, зацепок было предостаточно, чтобы неопровержимо доказать причастность НКВД к смерти Рейсса, а это, разумеется, было крайне нежелательно для имиджа молодой республики. Аля уехала в СССР ещё раньше, в 1922 г. Марина не питала никаких иллюзий касательно райской жизни, ожидающей её в России, но общее осуждение в среде эмигрантов (в равной степени тут повлияли слухи о деятельности Эфрона и тяжёлый характер самой Цветаевой), пристальный интерес французской полиции к семье «красного агента», многолетнее отчаяние, усталость от нищеты и одиночества заставили её прислушаться к постоянным требованиям сына вернуться в Россию. Кроме того, выбора у неё не было: семью уже давно контролировали органы, решавшие, когда и как должно быть осуществлено возвращение на родину жены Сергея Эфрона.
Об аресте сёстры и племянника ей, разумеется, известно не было. Подросток Мур был сущим ребёнком, несмотря на своё высокомерие и снобизм. Он искренне надеялся, что в России он, сын героя и брат героини «коммунистического фронта», окажется в привилегированном положении и настаивал на отъезде. В 1939 году мать и сын сели в Гавре на теплоход «Мария Ульянова». Так начался путь, приведший Марину в Елабугу, а Мура – в братскую могилу красноармейцев у деревни Друйка в Витебской области.
«Тишаю, дичаю, волчею»
По приезде семью Эфронов вместе с другой семьёй, «коллег» и собратьев, поселили в Болшево, на даче для работников НКВД. Уже здесь стало видно, что мечты и надежды не оправдались, а ловушка захлопнулась. Сергей Эфрон был в страшном состоянии – порой просто уходил в другую комнату и рыдал там в голос.
Через некоторое время его и Алю арестовали. Марина с Муром бежали в Москву, к друзьям и родственникам. Потянулись долгие и невыносимые будни – с поисками хоть какого-то своего жилья, работы, школы для Мура. Стихи её в России были не нужны и неуместны – кормиться приходилось переводами, заказы на которые для неё раздобывали друзья. Как раз тогда создавалась мощная национальная литература – отыскивались и издавались (конечно же, на русском) узбекские, таджикские, азербайджанские поэты. Спасибо им. Их стихотворения по-братски дали возможность выжить многим гениям, осколкам Серебряного века. Войну Марина встретила, переводя Лорку.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: