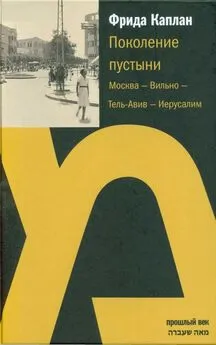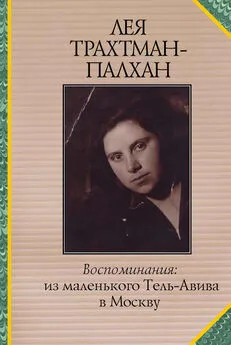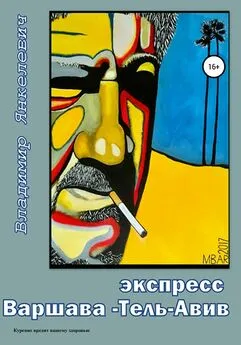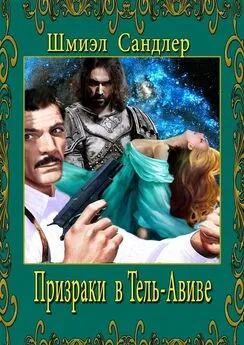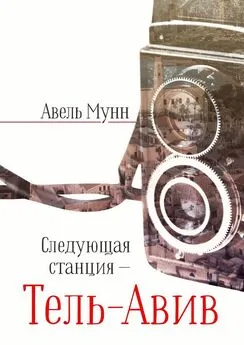Фрида Каплан - Поколение пустыни. Москва — Вильно — Тель-Авив — Иерусалим
- Название:Поколение пустыни. Москва — Вильно — Тель-Авив — Иерусалим
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Мосты культуры/Гешарим
- Год:2017
- Город:Москва, Иерусалим
- ISBN:978-5-93273-439-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Фрида Каплан - Поколение пустыни. Москва — Вильно — Тель-Авив — Иерусалим краткое содержание
Написанные на основе дневниковых записей, воспоминания содержат уникальные свидетельства о культурной атмосфере тех лет — театре, концертах, книгах, идеях, волновавших русскую и русско-еврейскую интеллигенцию в России и Литве до 1921 года, а также рассказывают о жизни русскоязычного зарубежья в Центральной Европе и Палестине в период между двумя мировыми войнами.
Поколение пустыни. Москва — Вильно — Тель-Авив — Иерусалим - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Когда я вернулась домой, я узнала, что моя хорошая подруга по классу, полька, с которой я сидела на одной скамейке, и мы однажды были посланы вместе к губернаторше Пален [116] Губернатором Вильны в 1902–1905 гг. был граф К. К. Пален (1861–1923).
с букетом, в парадной форме и белых передниках, обе молодые, красивые и гордые — я от евреев, она от поляков (русских учениц у нас было мало), — умерла скоропостижно от чахотки. Нам, еврейкам, даже нельзя было пойти на кладбище ее хоронить.
На меня эта смерть произвела потрясающее впечатление. Я еще слышала в ушах ее смех, ее щечки были розовые, и сама она была как цветок. Смерть троих наших товарищей, которых мы хоронили похоронным маршем с венками, с надгробными речами — со всей революционной пышностью, — была как-то оправдана в моих глазах. Но какая справедливость и какой смысл в такой безвременной и дикой кончине?..
Я снова вернулась к книжкам, учебникам и чтению.
Я читала Толстого. Мережковский его развенчал, говорил о расхождении теории с практикой толстовской жизни [117] Книга Д. С. Мережковского (1865–1941) «Л. Толстой и Достоевский» (1901–1902).
. Трудно было совместить веру в Толстого, в его «Не могу молчать», в его непротивление злу и опрощение с нашими понятиями о борьбе, о революции и протесте против царизма.
Я писала для моих учителей сочинения на 40-50-ти страницах на темы, которые не имели ничего общего со школьной программой. «Даром ничего не дается, судьба жертв искупительных просит». Или о религии, о прекрасном: «Rien n’est vrai que l’est beau et vice versa», то есть «истинно только прекрасное» или «прекрасно только истинное». Я изучала философскую пропедевтику, как это называлось у нас, — психологию и логику, социологию.
Мой молодой учитель, который считал себя очень ученым, запутывал мой мозг еще более неразрешимыми проблемами: материализм и спиритуализм, платоническая и «страстная» любовь, горьковский «Буревестник» и «Смерть Богов» Мережковского. В моей душе была буря и неразбериха.
В нашей экстернической среде настроение было очень похоже на мое. Все почему-то ныли и были в чем-то разочарованы, и к этому у моих товарищей по экзаменам еще прибавлялись материальные заботы, которых у меня, к счастью, не было. Они большею частью готовились самоучкой, помогали друг другу, бывшие студенты давали уроки тем, кто не имел средств для частных учителей. Занимались группами, брали учителей из гимназий, которые подготавливали их по программе, а мы снабжали их книгами.
Эта юношеская меланхолия еще переплеталась с еврейскими страданиями. Я переписывалась с товарищами, которые жили в Петербурге, и там было нытье такое же, как у нас, в Вильне. Может быть, это была мода, как когда-то был в моде байронический сплин и лермонтовская меланхолия, или то, что еще Петрарка называл ацедией [118] Апатия, отсутствие волевой активности (acedia — лат. ).
. Стихи, которые читали на вечерах, кроме вышеупомянутых, все были «с надрывом»: «Шильонский узник», «На городском мосту», «Змея подколодная» и др. В «Змее подколодной» конец был такой:
Эх-ма, товарищи, горе сердечное,
Горе великое и бесконечное,
Пенным вином не зальешь [119] «Змея подколодная» — положенное на музыку стихотворение поэта С. Ф. Рыскина (1859–1895).
!
Какое отношение я, девочка, еще не достигшая 16 лет, имела к пенному вину, которого я никогда не пробовала, и к горю сердечному, которого я не испытала, — я не знаю, но такие стихи мне нравились.
Я себя считала «пропавшим талантом» в области танцев, а моя подруга Раля себя считала такой же «прогоревшей артисткой»: однажды мы с ней решились пойти в гостиницу, где всегда останавливалась артистка Комиссаржевская [120] Актриса В. Ф. Комиссаржевская (1864–1910) работала в Вильно в 1894–1896 гг. в антрепризе К. Н. Незлобина, где сыграла около 60 ролей; самый большой успех выпал на роль Рози в пьесе «Бой бабочек» Г. Зудермана.
, которая тогда у нас гастролировала. Раля приготовила несколько номеров с декламацией: «Дедушкины сказки» Фруга, «Дочь Иофая» и «Дочь Шамеса» [121] «Дедушкины сказки», «Дочь Иофая», «Дочь Шамеса» — повествовательные стихотворения русско-еврейского поэта С. Г. Фруга (1860–1916), чья поэзия сочетала романтические и национальные мотивы. Пользовался большой популярностью в конце XIX века.
, и еще несколько стихотворений с «трагической нотой», но каково же было ее разочарование, когда великая артистка ее даже не приняла, и мы ушли ни с чем.
Эти неудачи нас очень сближали, и мы терзали друг друга нашей мировой скорбью, разбитой жизнью. Я писала стихи в очень минорных тонах, она же с горя завела роман с гимназистом, которого считала погибшим и которого решила спасти «от самого себя».
Теперь, когда девять десятых моих современников погибли в двух войнах и между ними, когда все то поколение, которое было «взрослым», когда я еще была юной и молодой, если и живы, то так постарели, что смерть, кажется, была бы для них избавительницей, мне трудно вернуться к тому времени, когда преждевременная смерть или беспомощная старость производили впечатление несправедливого порядка мироздания.
Однажды мачеха взяла меня в богадельню; она обычно на праздники оделяла бедных стариков сахаром и другими продуктами. Я должна была ей при этом помогать.
В первой же палате меня охватил неприятный терпкий запах бобковой мази [122] Мазь на основе выжимок из плодов лавра, втирается при ревматических болях.
и нечистых тел и постелей. Некоторые старики бродили по двору, другие лежали или сидели на кроватях. Все носили форменные халаты и ермолки. Когда мы оделяли их сахаром, они отвечали: «Чтобы вы делились с радостью и после празднества ( симха )». Большинство было апатично, равнодушно.
В женском отделении проявляли больше оживления и любопытства. Между женщинами происходили стычки из-за лишнего куска сахара. Они спрашивали друг друга: «Ты не знаешь, кто они?» — «Какая разница! Бо́льшая мицва [123] Мицва ( иврит ) — букв. заповедь, в быту — доброе дело.
, чем отдать актерам!» (т. е. потратить на театр).
В подвальном отделении находились самые безнадежные, умирающие. Хроники, инвалиды. Они были в полудремотном состоянии. Здесь смрад был нестерпимый. Они нас почти не видели и не обращали внимания на приношение, тетя отдала оставшиеся продукты заведующему, чтобы он разделил по своему усмотрению. Паралитики, склеротики мозга, полусумасшедшие вежетировали [124] Вели растительное существование (от vegetativus — «растительный», лат. ).
к своему затянувшемуся концу.
Иногда женщины и тут жадно выхватывали и запихивали в рот несколько кусков сахара.
Печальные еврейские глаза выглядывали из-под шапок, из-под одеял и платков. Из московской Ермаковской богадельни [125] В богадельне, открытой в 1876 г. текстильным фабрикантом и московским филантропом Ф. Я. Ермаковым (ум. 1895), содержались 500 человек, преимущественно крестьяне.
, где мы гуляли с няней, я вынесла воспоминание о чистеньких, веселых старичках и старушках, которые вязали чулок за калиткой или возились в саду, поливая цветы, пересаживая растения. Они грелись на солнышке. Может быть, это были те немногие, кто еще был на ногах и не достиг настоящей старости, или же русские люди были физически крепче, нормальнее, и такова же была их старость. Но эти сказочные старички были не похожи на наших.
Интервал:
Закладка: