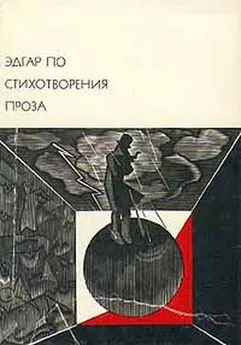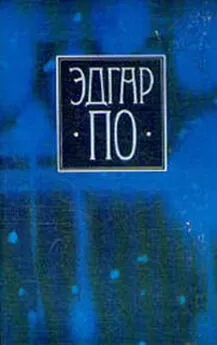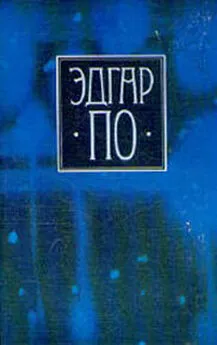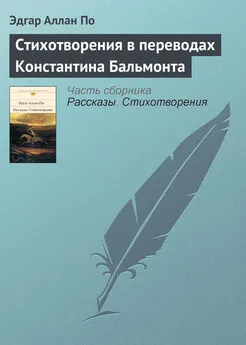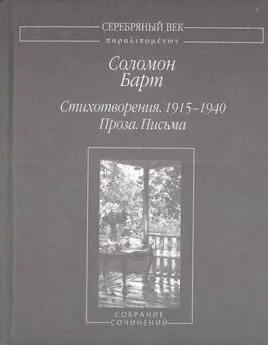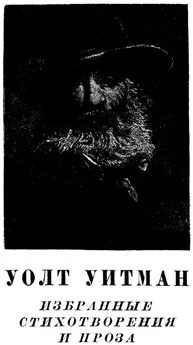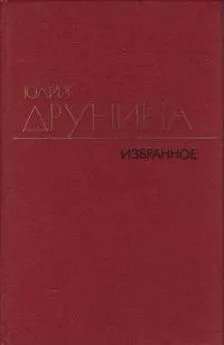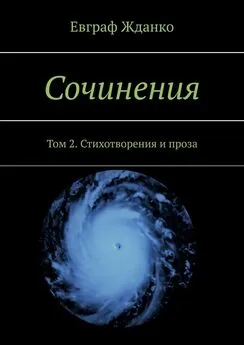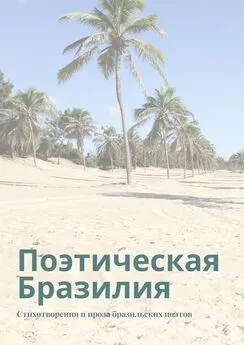Эдгар По - Стихотворения. Проза
- Название:Стихотворения. Проза
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Художественная литература
- Год:1976
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Эдгар По - Стихотворения. Проза краткое содержание
Перевод с английского.
Составление, вступительная статья и примечания Г. Злобина.
Иллюстрации В. Носкова.
Стихотворения. Проза - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Следуя романтическим концепциям искусства и в первую очередь воззрениям Кольриджа, По первостепенное значение придает воображению (Imagination) или вкусу (Taste). Он разделяет мыслительные способности человека на три части, полагая Сердцу область страстей в повседневном, Интеллекту поиски истины. Помещая Воображение между ними, именно ему он отводит творческую, созидательную функцию ума, ибо только оно обладает соответствующим языком для поэтического выражения — языком искусства. «Если… Совесть учит нас обязанностям, а Рассудок необходимости, то Вкус довольствуется тем, что дает очарование и ведет войну против Порока и присущих пороку уродливости, несоразмерности, враждебности всему сообразному, гармоническому, одним словом — Красоте» («Поэтический принцип») [24].
По резко нападал на «ересь назидательности», высмеивал плоский дидактизм, но был весьма чуток к нравственным категориям. Другое дело, что он всегда сопрягал их с эстетическими, выражая нравственное через эстетическое.
Основным достоинством произведения искусства По считал единство, то есть «целостность эффекта или впечатления», которые оно производит. Отсюда решительное предпочтение, отдаваемое им стихотворению и малой прозе — рассказу, которые можно прочитать за один присест, тогда как восприятие романа или поэмы неизбежно прерывается и дробится, и на этом основании По пренебрежительно относится к возможностям эпики. С другой стороны, именно в рассказе или стихотворении видится ему желаемая завершенность композиции, структуры произведения: «В сочинении не должно быть ни единого слова, которое прямо или косвенно не соответствовало бы заранее обдуманному замыслу» («Дважды рассказанные истории») [25]. Общий замысел произведения, его сюжет и другие компоненты должны найти окончательное выражение в развязке. «Только в том случае, если постоянно иметь в виду развязку, можно придать сюжету совершенно необходимое впечатление последовательности или причинности» («Философия творчества»).
Высказывания подобного рода, да и творческая практика писателя вносят существенную коррективу в представление о спонтанности, некой одержимости, бессознательном характере романтического вдохновения. «Большинство литераторов, в особенности поэты, предпочитают, чтобы о них думали, будто они сочиняют в некоем порыве безумия, под воздействием экстатической интуиции, и их пробрала бы дрожь, если бы публика заглянула бы за кулисы и увидела, как путанно и грубо работает мысль…» [26].
Эта антиинтуитивистская позиция Эдгара По приводит в смущение Р. Уэллека и О. Уоррена, авторов канонической на Западе «Теории литературы», которые усматривают у писателя «ужасающе глубокий разлад между бессознательным, которое толкает на навязчивые темы бреда, пыток, смерти, и сознательным, которое лишь литературно организует их» [27].
Пристальное внимание По к технологии создания произведения, к стройности и завершенности композиции, к форме стихотворения или рассказа, его «литературная инженерия» — факт неоспоримый. В «Поэтическом принципе», полемизируя с упрощенным пониманием искусства, он подходит к опасной черте признания его автономности: «…Не может существовать ничего более возвышенного и благородного, чем само стихотворение, стихотворение per se, стихотворение, которое является стихотворением и ничем иным и написано ради него самого» [28]. Но он не раз возвращался к мысли, что поэзия неотделима от «неистребимого желания познавать», что стихотворение — это не только «выраженный в языке практический результат поэтического чувства», но и средство «вызывать поэтическое чувство в других» (заметки «Поэзия и воображение»).
В своих статьях По почти не касается основных вопросов эстетики: соотношения искусства и жизни, общих закономерностей искусства, его метода. Как понятие истины в его гносеологических построениях, так и понятие красоты в его поэтике не имеет конкретного социально-исторического содержания, остается чисто романтическим пожеланием.
По не имел возможности целиком отдаться своей «страсти», как он определил сочинение стихов. Поэтическое наследие его совсем невелико. Принципиально нового качества поздняя лирика у По не приобрела. Тематический диапазон ее по-прежнему сравнительно узок: утрата возлюбленной, недостижимость идеала, острое сознание скоротечности всего сущего, невыразимость в слове потаенной мысли. Как бы высоко ни ставил По романтическое воображение, он, наверное, приходил к выводу о том, что оно не только имеет свои пределы («Нельзя вообразить то, чего нет», — определенно заявил он в письме-исповеди Джеймсу Р. Лоуэллу в 1844 году), но и быстро истощается. Отсюда углубленное внимание к внутреннему наполнению стиха и его структуре, музыке, к «ритмическому созданию Красоты» — таково его сугубо профессиональное, стиховедческое, технологическое определение поэзии.
Нет, пожалуй, романтика, который не полагал бы музыку высшим видом искусства, и По не был исключением. Многие страницы его прозы, будь то идиллически-печальная «Элеонора» или страшный «Колодец и маятник», организованы музыкально. Некоторые его новеллы-притчи («Тень», «Молчание») являют собой стихотворения в прозе и иногда печатаются со строчной разбивкой, как свободный стих. В поэтических произведениях По тем более стремился «проникнуть в ритм, слова и слоги», добиваясь при этом возможно полного соотношения звуковой и семантической структуры. Взять, к примеру, строку из «Ворона»: «Whether tempter sent, or whether tempest tossed thee here ashore» — повторение свистящих и зубных звуков по всей строке усиливают значение существительного tempest (буря) и глагола toss (швырять), а звуковая близость tempest и tempter (дьявол, искуситель) рождает неожиданное и нужное смыкание смысла.
Удачно найденный сквозной образ колоколов, сопровождающий человека с детских лет («радость разливают колокольчики кругом») до могилы («колокола реквием разносится кругом»), позволяет все стихотворение организовать по принципу звукоподражания, и оно становится развернутой метафорой, отмеривающей каждому смертному время («Звон»).
Стихи По подтверждают выдвинутый им тезис о том, что «возможные разнообразия размера и строфы абсолютно бесконечны» [29]. Во всем стихотворном наследии По вряд ли сыскать два одинаковых в этом смысле произведения. Хотя близкие по теме «Эннабел Ли» и «Улялюм» написаны анапестом, но разностопность и разное количество строк в строфе создают совершенно непохожие мелодические рисунки, которые во многом определяют настроение и содержание стихов: в первом случае на редкость искренняя просветленная грусть при воспоминании о былой любви, которая «сильнее любви», во втором — полумистический ужас перед тайной смерти.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: